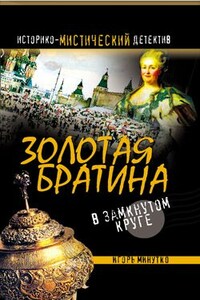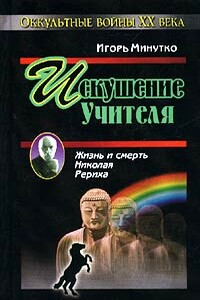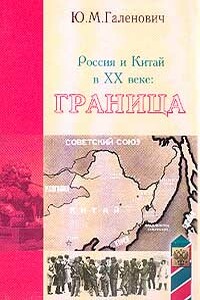Ждали...
— Ненавижу! Ненавижу!.. — шептал Гриша, и бессильные, злые слёзы туманили его глаза. — Убью!..
На пороге показался Остап с пуховой периной в руках.
— Никого! — гаркнул он. — Поховалысь! — И своими огромными ручищами с хрустом разодрал перину.
Мгновенно ветер набросился на охапки пуха, всё — и ревущая толпа, и кусты жасмина под окнами, и растерзанный палисадник — покрылось белым пухом, его несло, кружило, поднимало вверх...
...В дальнейшей жизни этот сентябрьский снег из перины Гутманов снился Григорию Каминскому в редких кошмарных снах.
— Теперя к Ромбауму! — завопил Остап. — У их дед паралитик! Небось у хати сидять, двери сундуками поприперли!
Гогочущая, изрыгающая ругательства толпа, окутанная облаками белого пуха, повалила к углу соседней улицы, где находился дом аптекаря Ромбаума, лечившего всю округу.
Вечером, за ужином, когда уже всё было позади, когда все знали о мученической смерти аптекаря Ромбаума, о гибели его семьи и в окраинную рабочую слободку Екатеринослава понаехало много полиции, четырнадцатилетний брат Иван, резко отодвинув тарелку с мамалыгой, сказал:
— Так быть не должно! И так жить дальше — нельзя!
— Я согласен с тобой, сын. — Наум Александрович положил на плечо сына тяжёлую руку.
— И я, папа, буду с теми, кто борется с этой мерзостью! Я за социализм!
Отец промолчал. Мама плакала.
«И я с тобой! И я, Иван!» — твердил про себя Гриша.
...Позади остались бахчи, тропа вильнула в заросли кустарника, ещё немного пройти по низине. Уже издали братья услышали возбуждённые возгласы, крики одобрения.
Путь им преградили трое парней. Один из них, смуглый, с рябинками на щеках, улыбнувшись, сказал:
— А, гимназия! Проходи!
Лужайка была заполнена людьми. Преобладали здесь рабочие, и молодые, и пожилые, в их единую массу были вкраплены студенческие кители и светлые цивильные костюмы «господ из благородных» (так, с некоторым недоверием и предубеждением, тут называли учителей, инженеров, служащих контор — словом, представителей интеллигенции).
На бочке стоял пожилой худощавый рабочий в синей сатиновой косоворотке, подпоясанной тонким ремнём, штаны были заправлены в сапоги, в правой руке он сжимал фуфайку.
Двенадцатилетний Григорий Каминский уже многое понимал из того, что говорили и о чём спорили на нелегальных сходках.
— Куда зовут нас меньшевики? — говорил рабочий на бочке, энергично жестикулируя рукой с зажатой в ней фуфайкой. — К парламентской борьбе! Берите пример с рабочих европейских стран, говорят они мам! Мирным путём добивайтесь всеобщих демократических выборов, посыпайте в Государственную Думу своих депутатов... Меньшевики даже против всеобщей забастовки...
— Долой! — закричали в толпе.
— Даёшь забастовку!
— Гони меньшевиков!
— Да здравствует революция!
— Товарищи! — поднял руку оратор, и толпа неохотно стихла. — Российская социал-демократическая партия готовится к своему пятому съезду. Он будет работать в одной из стран Европы. Думаю, на нём позиции меньшевиков и наши, большевистские позиции прояснятся окончательно. Нам, социал-демократии Минска, предстоит избрать на съезд своих депутатов. Я призываю послать товарищей, стоящих на большевистской платформе!
Толпа загудела. Со всех сторон кричали:
— Большевиков — на съезд!
— Долой соглашателей с буржуями!
— Николаич, читай фамилии!
Но в это время раздался пронзительный свист, на поляне появился один из парней, встретивших Ивана и Гришу на тропе к поляне, и закричал:
— Казаки! С трёх сторон жарят! Бахчами уходить надо!
Толпа, на мгновение замерев, ринулась в разные стороны.
Затрещали кусты.
— Товарищи! Прикрывай Николаича! У него документы!
Вокруг Гриши и Ивана всё двигалось, мелькали испуганные решительные потные лица.
— Бежим! — Брат схватил мальчика за руку.
Они мчались, не разбирая дороги, напрямки — к бахчам. По лицу больно стегали ветки, с боков и сзади тоже бежали люди, но постепенно их становилось всё меньше...
Братья вылетели к арбузному полю, и Гриша успел заметить — это чрезвычайно удивило его: в глянцевых боках светлополосатых арбузов отражается заходящее солнце.