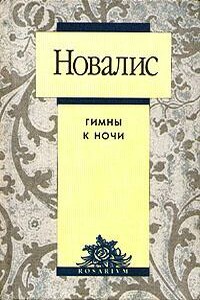Но вот за тем поворотом утес, и слетает в вечереющем воздухе висевшая вниз головой мохнатая мышь, самое фантастическое из земных существ, скользит бесшумно своими крылами и бьется, кружит над ее головой.
А за утесом объемлет молчание реку, и не слышен всплеск ее волн, всей глубиной своей, бесшумно и медленно катит она замолкшие волны.
Что это значит?
Сидит у окна, задумавшись, девушка, и подходит Осень к окну. Печальны и строги черты ее, холодком дышат прекрасные звонкие уста. И как хрустящий под ногой у прохожего юный мороз на подсохшей траве, слышны слова:
— Умер, умер твой Белый Христос! Не воскресают умершие, не возвращается отжившее вспять. Новое время — новые боги. Мне грустно, грустно вместе с тобой. Я — невеста всех отходящих богов.
«Откуда эти страшные мысли? — думает Анна. — Почему Ему суждено умереть?»
И вспоминает под шепот осенний то, что потонуло в порыве души, когда обменялись крестами, — печальный напев Глебовой фразы: «мне носить его, знаю, недолго».
И судорожно ищет на груди своей крест, и, найдя, достает и целует, и не выпускает из рук. Крест дает ей слабую теплоту ее же горячего тела, но кажется Анне, что идет от него своя теплота, и она согревает ей душу, и становится легче дышать.
«Пустые тревожные мысли! Я становлюсь суеверна. Нет, Глеб не умрет, мы еще будем жить…»
И загорелась внутренней краской от этого «мы».
«Я его охраню от нависнувшей смерти, как он обещал охранить от крылатой вещуньи. Я не пущу, не отдам его ей…»
И снова, и снова обрывает себя:
Он здоров, он скоро придет, просто сама она нервничает, просто долго нет его возле нее.
Вздыхая, отходит от окна вся в серебре, в ночном дорогом уборе своем вечно печальная, вечно прекрасная Осень — невеста всех отходящих богов. Молчит она, но молчание ее так же хрустально прозрачно, так же светит до дна сокровенных мыслей ее, как сама она вся в своей непорочности.
И надвигается темная ночь, и возле дома, и в доме, у порога души. Переливается тьма, поднимает безликую голову, снова прячет в костлявые плечи и вылезает опять. Хочет в душу войти, хочет влить в ее воды свой холодный, тяжелеющий мрак. Но сжимает Анна маленький крестик все крепче и крепче п руках своих, и осеняет им тьму, и молится тихо:
— Господи, сохрани… Господи, помилуй его… Господи… А время идет, и все растет безнадежность. Кажется, не будет конца этой ночи, начавшейся вечность назад. Что с ним? Где он?
— Глеб, Глеб, отзовись! Брат души, прекрасный ангел, сошедший на землю!.. Не улетай, помедли здесь с нами, вернись…
Входит Андрей. Встревожен и он, хотя не дает почувствовать Анне. Но, ах, разве можно что-нибудь скрыть от нее? Разве не видит она, что рядом с ним, вместе с ним, впереди его вошло беспокойство, томящее чуткую душу.
— Брат, и ты беспокоишься? Где он? — кинулась Анна к нему — только вошел.
И не успел он ответить, не успел рта ей открыть, как за него сказало его беспокойство:
— «Да, я боюсь, я не хотел тревожить тебя, но большим счастьем будет, если пройдет этот день без беды…»
Вслух же ответил:
— Да, поздно уже, но, я думаю, беспокоиться нечего. Засиделся и только.
«Ты бы ложилась спать…», — хотел он добавить, но даже послушный язык отрекся от этих слов.
Настоящий же Андрей и сам тревожился очень.
— Хочешь, что-нибудь я тебе почитаю?
— Нет, брат, не хочется. — Но потом, подумав, добавила: —А, впрочем, прочти.
— Что ты хочешь?
— Из Тютчева. Прочти, что откроется.
— Хорошо.
Андрей вышел за книгой, а Анна закрыла руками лицо и ждала. Жутко ей становилось. Со всех сторон обступала, заливала, поглощала ее ночная стихия.
— Кто там? Вздрогнула вся: — Андрей!..
— Это я.
— Дай, я открою сама. — Встала и открыла. — Читай! Андрей прочитал:
На мир таинственный духов — Над этой бездной безымянной — Покров наброшен златотканный Высокой волею богов.
День — сей блистательный покров, День, земнородных оживленье, Души болящей исцеленье, Друг человеков и богов!
Но меркнет день, настала ночь; Пришла и с мира рокового, Ткань благодатную покрова, Собрав, отбрасывает прочь…
И бездна нам обнажена С своими страхами и иглами, И нет преград меж ей и нами: