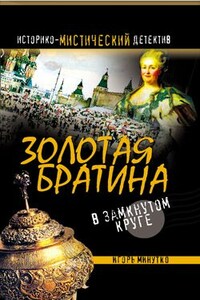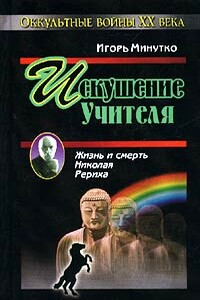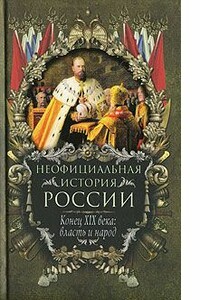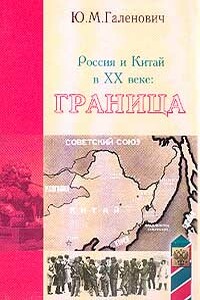— Он бросил бомбу в минского губернатора, генерала Курлова. Этот Курлов залил улицы кровью в пятом году, когда вывел войска против рабочих...
— И что же? — перебил Гриша.
— Бомба не взорвалась! Представляешь, после воскресной службы губернатор вышел на паперть кафедрального собора, тут из толпы и кинулся к нему Пулихов, бросил бомбу под самые ноги этому мерзавцу, а она не взорвалась!
— Бомбы не умеют делать, — промолвил Наум Александрович, расправив густые чёрные усы и поднося ко рту блюдце с чаем. — Вот народовольцы умели делать.
— Я-то думала, — тихо сказала Екатерина Онуфриевна, — уедем, и не будет в доме этой политики... — По щекам её опять потекли слёзы. — А вы снова, снова!..
— От политики, матушка, никуда не сбежишь, — миролюбиво сказал отец, потягивая с блюдца чай.
— А дальше? — спросил Гриша. — Что со студентом?
— Тут же схватили. Вот написано: «Злодей задержан на месте преступления жандармами и полицейскими».
— Они его сразу до полусмерти избили! — Щёки Клавы, которой совсем недавно исполнилось двенадцать лет, залило яркой краской. — Прямо на паперти собора!
— И эта туда же! — всплеснула руками Екатерина Онуфриевна. — С чего взяла?
— На втором этаже нашего дома швейная мастерская. Пошла за водой, у колодца мастерицы...
— Да об этом весь Минск говорит! — поддержал сестру Иван. — Ходил в лавку за хлебом и сахаром — народ только об одном: смертный приговор студенту.
...В ту пору, в феврале 1906 года, Григорию Каминскому было десять лет, а его старшему брату Ивану шёл шестнадцатый.
В первые же дни новой жизни у Гриши появился друг, Володя Григорьев, сын швеи. Истый минчанин, он знал город как свой дом. Володя был коренастым, шумным, непоседливым. Мать его была полька, пани Мария, с печальным, бледным и озабоченным лицом, на котором чёрными дугами разбегались тонкие брови, а под ними мерцали серые, тоже печальные, глаза. Пани Мария поразила Гришу и своей красотой, и лёгкой летящей походкой, всё она делала быстро и в то же время плавно. Володя был совсем не похож на свою мать, наверно, удался в отца, машиниста на железной дороге.
Володя и Гриша были одногодками, и как-то так получилось — Володя стал главным во всех их затеях. Впрочем, понять можно: для Гриши всё здесь было пока неведомо, казалось чужим, и это вызывало чувство неуверенности.
...Начинало смеркаться, и Гриша засветил керосиновую лампу — впереди захватывающее, любимое занятие: чтение, Фенимор Купер, «Всадник без головы», он остановился на семьдесят третьей странице...
— ...Гриша! — послышался голос матери из соседней комнаты. — К тебе Володя пришёл.
Володя был непривычно хмур, в серых глазах нет озорства и лукавства, он наклонился над ухом друга.
— Нынешней ночью его повесят, — зашептал он, — и это можно увидеть...
— Кого повесят? — оторопел Гриша. — И... что можно увидеть?
— В сегодняшних «Ведомостях»... Царь отклонил прошение родных студента Пулихова о помиловании. Ночью в тюремном дворе он будет казнён. А тюрьма через три улицы от нас!
— Ну? — У Гриши перехватило дыхание.
— Рядом с тюрьмой трёхэтажный дом. По пожарной лестнице можно залезть на крышу, и весь тюремный двор перед тобой! Я только что...
— Лазил? — ахнул Гриша.
— Да! Пожарная лестница со стороны помоек, стена глухая, никого нет. — Теперь лицо Володи пылало азартом. — Так пойдём?
— Ты говоришь, ночью... Ничего не увидим.
— Во дворе тюрьмы горят фонари. Постой! Может, ты боишься?
— Ничего я не боюсь!
Гриша говорил правду: страха не было. Появилось, и он боялся признаться себе в этом... появилось жгучее любопытство: как это казнят человека?..
— Тогда, — прошептал Володя, — встречаемся в десять вечера у аптеки Захарьевской. Сумеешь незаметно выбраться из дома?
— Сумею.
Он решил сыграть в открытую.
— Мама, — сказал Гриша, когда стенные часы с гирей в виде еловой шишки показывали полдесятого, — я немного погуляю перед сном. На всякий случай ключ возьму. Вдруг вы рано ляжете спать.
Екатерина Онуфриевна на кухне была занята стиркой и словам сына не придала никакого значения. Она устало разогнулась над корытом, в котором белыми кучевыми облаками вздымалась мыльная пена, и сказала: