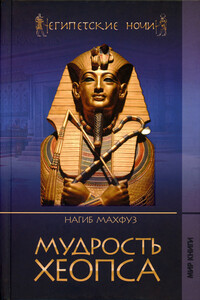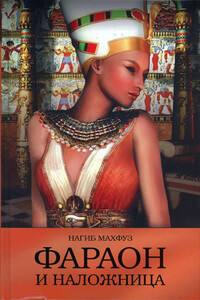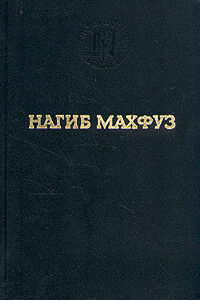Отец Абд аль-Фаттаха присаживается чуть поодаль могилы и начинает без всякого приглашения. Если голос его нравится родственникам покойного, его слушают с четверть часа и подают несколько лепешек, пирожков или горсть печенья. Некоторые остаются так довольны, что добавляют еще сухих фиников, или плоды рожкового дерева, или земляные орехи, или несколько мелких монет. Но чаще, конечно, милостыня скудная — пара пирожков на самом дешевом масле. И ничего удивительного — фекки Хамис не пользуется симпатией у старушек, завсегдатаев кладбища, потому что всегда читает только те стихи Корана, в которых речь идет об аде, геенне огненной и прочих неприятных и страшных вещах. Одна старуха даже как-то отругала его:
— Да помолись же ты наконец за пророка! Что ты все долдонишь про ад! На, возьми и убирайся отсюда! — и сунула ему два ломтя черствого хлеба.
Фекки внимательно оглядел подаяние, сунул хлеб в мешок и пошел прочь, бросив старушке на ходу:
— А ты за эту ерунду рая ждешь с зелеными кущами?
Он подошел к другой могиле и начал читать тот же самый стих.
Сабаави вдруг сказал:
— Его отец говорит, что фекки Хамис из всего Корана знает только этот стих да еще несколько самых коротких сур, поэтому…
Тут Кармут опять толкнул его в бок:
— Да нет же, дурак! Фекки Хамис всегда начинает с ада, а вот если увидит, что ему подают пирожки и лепешки из хорошей муки, тогда уж он к райским кущам переходит…
Весь класс зашелся хохотом, и даже учитель не смог сохранить свою обычную степенность. Но когда он, так же как и мы, стал, уже изнемогая от смеха, постукивать ногами об пол, лицо его вдруг странно сморщилось, на покрасневших глазах заблестели слезы, и трудно стало понять, смеется он или плачет.
Нет, этот день не прошел бесследно. Есть вещи, которые прочно западают в память. Абд аль-Фаттах аль-Гумейи никогда уже не был для нас тем, кем был прежде. А между учителем и нами с тех пор существовал словно бы какой-то тайный уговор, и частенько на уроках в глазах наших сорванцов появлялись лукавые искорки, как бы приглашающие его продолжить беседу о кладбище, милостыне и чтении Корана. И я готов поклясться, что по крайней мере дважды Абуль Макарим-эфенди чуть было не поддался на эти провокации. Однако он подавлял набегавшую на лицо улыбку, и его длинная указка заставляла нас уткнуться в учебники. А потом случилось вот что.
Урок арифметики тянулся бесконечно медленно. И вдруг за окном, выходящим на террасу, замаячили тени, стали четче, приняли очертания человеческих фигур… Учитель стремительно поднялся со стула, крикнул: «Встать!» Мы повскакивали из-за парт, почтительно вытянулись, и в класс вошел сам школьный смотритель с каким-то важным господином. Мы быстро сообразили, что это инспектор. «Сесть!» — приказал учитель. Стараясь не шуметь, мы заняли свои места.
Инспектор направился прямо к учительскому столу, уселся и просмотрел классный журнал, делая красным карандашом какие-то пометки. Потом взглянул на учителя, и тот начал быстро задавать нам вопросы — то один, то другой, то по той, то по этой теме, будто показывал нас инспектору со всех сторон. А инспектор сидел прямо, не шевелясь, уставившись на нас пугающе пристальным взглядом.
Учитель, опросив очередного ученика, украдкой косился на инспектора, как бы ожидая, что тот скажет: «Хватит, достаточно». И уйдет. Но инспектор все сидел, а смотритель стоял рядом настороже, всем своим видом демонстрируя стремление раскрыть некий утаиваемый пробел в знаниях учащихся. Может, именно поэтому он вдруг указал пальцем на Абд аль-Фаттаха Хамиса аль-Гумейи:
— Ты. Встань и дополни ответ.
Но Абд аль-Фаттах мыслями был где-то совсем в другом месте. У него всегда был такой отсутствующий взгляд, лицо одутловатое, невыразительное, Он продолжал сидеть, словно речь шла не о нем. Казалось, он не обращает никакого внимания на господина смотрителя. В негодовании наш учитель прикрикнул: «Эй, как тебя там!» Голос его был полон презрения и ненависти.
Абд аль-Фаттах, однако, и тут не шевельнулся. Тогда учитель вне себя от ярости закричал:
— Эй ты!.. Ты, могильщик!