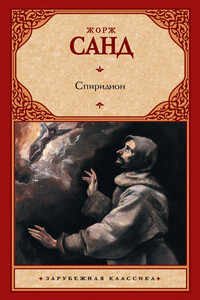Обретенное время - страница 9
Я не взял у Жильберты «Златоокую девушку», поскольку она эту книгу еще читала. Но в последний вечер, проведенный в ее доме, она дала мне полистать перед сном другое сочинение, которое вызвало во мне живое, хотя и смешанное чувство, — впрочем, ненадолго. То был неизданный том дневника Гонкуров[17].
И когда, еще не затушив свечу, я прочел страницы, приведенные ниже, отсутствие во мне словесного дара, о чем я догадывался на стороне Германта, в чем уверился в этот приезд — в последний вечер предотъездной бессонницы, когда разбивается оцепенение гибнущих привычек, и мы пытаемся размышлять о себе, — не показалось мне чем-то очень горестным, возможно оттого, что глубокие истины литературе недоступны; и в то же время меня печалило, что литература оказалась не тем, во что я верил. С другой стороны, моя болезнь, которая вскоре приведет меня в больницу, теперь не вызывала во мне сожалений, потому что прекрасные вещи, описанные в книгах, оказались ничуть не лучше того, что я уже видел. Но по странному противоречию, теперь, когда о них рассказывала книга, мне захотелось еще раз на них посмотреть. Вот эти страницы, которые я читал, пока усталость не смежила мои веки:
«Позавчера сюда влетает Вердюрен[18], чтобы отвезти на ужин к себе, давнишнему критику “Ревю”, автору книги об Уистлере, в которой же поистине мастерство, артистичная колористика американского выходца частенько изощренно тонко подается поклонником всех этих изысканностей, всех этих живописных изящностей, каков и есть Вердюрен. И пока я одеваюсь, чтобы за ним последовать, он мне выдает целую повесть, порой как на исповеди с перепугу мямля, о том, как он отказался писать, женившись на фромантеновской “Мадлен”, отказался же по причине пристрастия к морфину, в результате чего практически все завсегдатаи салона жены его лишены понятия, утверждает Вердюрен, что ее муж когда-то писал, и ему говорят о Шарле Блане, о Сен-Викторе, о Сент-Бёве, о Бурти как о личностях, которым, считают они, он — Вердюрен — уступает бесконечно. “Да, Гонкур, вы-то знаете, да и Готье это знал, что мои ‘Салоны’ посильней всех этих жалких ‘Старых мастеров’, почитаемых шедевром в семье моей жены”[19]. Затем, сумерками, когда башни Трокадеро охвачены как бы последним воспламенением закатных бликов, в силу чего абсолютно подобны столбикам смородинного желе у старых кондитеров, беседа продолжается в экипаже, что везет нас на набережную Конти, где их особняк, по словам хозяина — старинный дворец венецианских послов, а там, Вердюрен говорит, есть курительная зала, что, как в “Тысяче и одной ночи”, целиком перемещена из одного знаменитого палаццо, его же название я позабыл, в палаццо же был колодец, а на нем маргелла, а на ней изображено венчание Марии Девы — как утверждает Вердюрен, абсолютно из прекраснейших работ Сансовино, — а она пригодилась их гостям, дабы стряхивать с сигар пепел. И честное слово, когда мы приехали, в просини и мареве лунного света, поистине подобного тому, что осеняет Венецию в классической живописи, на котором прочерченный купол Института наводит на мысль о Салюте на картинах Гварди, мне едва не пригрезилось, будто я у Канале Гранде. И грезу усиливает конструкция особняка, чьего же второго этажа с набережной не видать, и напоминание хозяина: он уверяет, будто название улицы дю Бак — подумать только, так ее растак! — произошло от слова “барка”, на барке же монахини прежних лет, мирамионки, переправлялись на службы в Нотр‑Дам