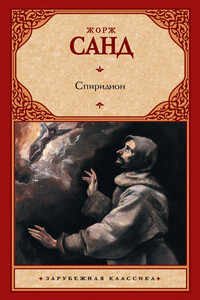. И когда я говорю Вердюрену: какая же это утонченная, должно быть, радость для него — так изысканно объедаться из этих коллекционных тарелочек, которыми никакой принц сегодня не похвастается, тогда хозяйка кидает мне меланхолически: “Сразу видно, что вы его совсем не знаете”. И она признается, что ее муж — причудливый маньяк, которому безразлично изящество, “маньяк, — повторила она, — просто маньяк”, у которого больше аппетита к бутылке сидра, распитой со всяким сбродом в прохладе нормандской фермы. И очаровательная женщина словами истовой любови к колоритам местности, в кипучем восторге, рассказывает нам о Нормандии, в которой они проживают, о Нормандии, которая как необъятный английский парк в благоухании крупных лесонасаждений в духе Лоренса, в бархате криптомерий по фарфоровой кайме розовых гортензий натуральных ее лужаек, в мятье желтых роз, опадающих у крестьянских ворот, что осенены столь орнаментальной инкрустацией сплетенных грушевых деревьев, наводящих на мысль о небрежно склонившейся цветущей ветви бронзового канделябра Гутьера, о Нормандии, о которой парижане на вакациях забыли знать, о Нормандии, сокрытой владений
оградою — тем забором, что, исповедали мне Вердюрены, уж не всякого пропустит
[26]. На исходе дня, в сонном затухании цветов, когда если что-то светится еще, то только море, море почти створоженное, сизоватое, как молочная сыворотка (“Да что вы в море понимаете, — неистово опротестовывает собеседница мой рассказ, что Флобер возил нас, моего брата и меня, в Трувиль, — ничего абсолютно, вам следует поехать со мной, иначе вы не узнаете ничего и никогда”), они возвращаются самыми настоящими лесами в прозрачных розовых цветах, а именно рододендронов, их опьяняет запах сардинерии, который вызывает у ее мужа невыносимые приступы астмы: “да, — настаивает она, — это так, настоящие астматические припадки”. Туда они возвращаются следующим летом, намереваясь приютить целую колонию художников в некоем восхитительном средневековом жилище, древнем монастыре, и сняли за пустячок. И честное слово, когда я слушаю эту женщину, которая сохранила в изысканной среде свежесть речи, присущей простолюдинке, ее же слова вам кажут всё так, как если б вы сами видали
[27], у меня едва слюнки не текут при мысли о той жизни, что, исповедует она мне, там ведется — каждый работает в своей келье, а в гостиной, такой огромной, что там два камина, все собираются перед завтраком для изысканных бесед, шарад и фантов, — меня опять заставив вспоминать всё то, что воскрешает шедевр Дидро: “Письма к м‑ль Волан”. Затем, после завтрака, все выходят, даже во дни непогод, и палящим зноем, и сверкающим ливнем, что линует блистательным своим сочением шишковатости первых чýдных аккордов столетних буков, зачинающих у ограды
зеленуюкрасоту, чтимую XVIII веком, и кусты, удержавшие для цветущих бутонов на своих ветвях — капли дождя. Останавливаются послушать нежного губошлёпа, влюбленного в свежесть, снегиря, купающегося в милой крошечной ванне из Нимфенбурга
[28], разумею венчик белой розы. Но как только я говорю г‑же Вердюрен о нормандских цветах и пейзажах, нежно пастелизуемых Эльстиром, она бросает, сердито вскинув голову: “Так это ж я ему всё показала, всё, да будет вам известно, и все любопытные местечки, и все сюжеты ему подарила, — и я ему поставила это на вид, когда он нас покинул, не так ли, Огюст? все сюжеты его картин. Сами-то предметы, по правде говоря, он рисовать умел, это мы за ним признаём. Но что касается цветов, то ничего он в них попросту не понимал, и даже не отличал просвирняк от мальвы. И это ж я ведь ему показала, подумайте только, как выглядит жасмин”. И надо признать это крайне любопытным, что мастер цветов, коего почитатели искусства ставят сегодня выше всех, и даже Фантен-Латура
[29], не смог бы ни за что, наверное, не будь этой дамы, нарисовать жасмин. “Да что я вам говорю про жасмин; все розы, что он рисовал, это всё у меня, или же я ему их приносила. Мы его тут запросто звали —
господином Тишем; спросите у Котара, у Бришо, у всех — мы тут с ним как со знаменитостью не носились: то-то бы он сам посмеялся! Я его научила расставлять цветы, сам-то он не умел. Ну не мог он составить букет! Своего-то вкуса, чтобы отбирать цветы, у него не было, и мне приходилось его учить: ‘Нет, вы этого не рисуйте, оно того не стоит, рисуйте вот что’. Ах! Если б он слушался нас не только касательно цветов, но также касательно семейной жизни, если бы только он не вступил в этот постыдный брак!..” И внезапно вспыхнули глаза, поглощенные мечтою о былом, и, нервически дернувшись, маниакально вытянуты фаланги из пышных рукавов ее блузы — это, в оконтурке страдальческой позы, как восхитительное полотно, так никогда, я полагаю, не написанное, но в каковом читается затаенное возмущение, гневная обида подруги, чьей порядочности, женской стыдливости нанесено оскорбление. И затем она рассказывает нам о замечательном портрете, созданном Эльстиром для нее, семейном портрете Котаров, что был передан ею в Люксембургский, когда она поссорилась с художником, исповедуя, что это она навела художника на мысль нарисовать Котара во фраке и тем добиться всей этой прекрасной бурлящести белья, и именно она выбрала бархатное платье для г‑жи Котар, а это платье словно бы маячок во всем этом мерцании светлых нюансов — ковров, цветов, фруктов, дымчатых платьев дочерей, подобных пачкам балерин. Она же подсказала идею причесываться, за что ныне тоже славят художника, идея же в целом состояла в том, чтобы изобразить женщину не разряженной, но застигнутой в интиме ее повседневности. “Я ему так и говорю: ‘Женщина причесывается, вытирает лицо, ноги греет и не думает, что на нее смотрят, — да здесь же целая куча всяких интересных движений, грации прямо-таки леонардовской!’”