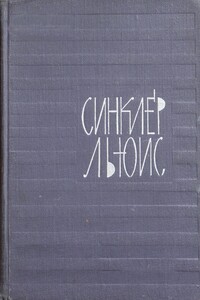. Вот он, квартал, где бродило мое детство, когда тетка моя де Курмон здесь обитала, и что за
возлюбовь охватывает меня, когда едва ли не впритирку к Вердюренову особняку я вижу вывеску “Маленького Дюнкерка”, одной из тех немногочисленных лавчонок, что сохранились только на виньетках карандашных набросков да лессировок Габриеля де Сент-Обена, и куда любознательный XVIII век приходил посидеть в праздные минутки, дабы сторговать французские и заграничные изящества и “всё то, чего новейшего творят в искусстве”, как гласит счет “Маленького Дюнкерка”, ныне же его оттиском одни мы, я полагаю, Вердюрен да я, обладатели, а он, поистине, один из тех шедевров отрывной орнаментованной бумаги, на которой же при Людовике XV выписывали счета, с этой ее “шапкой” — а там море вспýченное, кораблями замученное, море волнистое и по виду как иллюстрация одна из издания старших Фермье: к “Устрице и сутягам”
[21]. Хозяйка дома, которая сейчас усадит меня рядом с собой, говорит мне любезно, что ничем она свой стол не украсила, но лишь японскими хризантемами, хризантемы же расставлены в такие вазы, что будто все редчайшие шедевры, и та, что из бронзы, лепестками меди рыжеватой кажет как бы живое опадание цветка. Присутствуют доктор Котар и жена его, польский скульптор Вырадобетский, коллекционер Сван, знатная русская дама, княгиня, имя которой на ‑
оф я запамятовал, и Котар шепнул мне на ухо, что это она в упор палила в кронпринца Рудольфа, и по словам которой выходит, что у меня в Галиции и на севере Польши такое абсолютно исключительное положение, что девушка не оставляет надежды на руку свою, пока не убедится наверняка, что ее воздыхатель — поклонник “Фостен”
[22]. “У вас на западе не признаю́т, — кидает в заключение княгиня, произведя на меня впечатление поистине незаурядного ума, — подобного проникновения писателя в женскую интимность”
[23]. Мужчина — бритые губы и подбородок, бакенбарды, как у метрдотеля, — благосклонно сыплющий остротами школьного учителя, снизошедшего до первых своих учеников по случаю дня св. Карла, — это Бришо из Университета. По произнесении моего имени Вердюреном он и звуком не выдает, что знает наши книги, и мне причиняют гнев и уныние происки Сорбонны, которая и в любезном жилище, где меня почитают, преследует меня противлением, неприязнью, намеренным умолчанием. Мы проходим к столу, а там — замечательная вереница блюд, попросту шедевров фарфорового искусства, эти — пока их ценителя услажденное внимание вкушает, с нежною пищей, наиприятнейшую художественную болтовню, — тарелки Юн-Чин с настурциевой окраской по закраинкам, с сизоватой набухлостью лепестеня речного ириса на донышке, с ободком, поистине распрекрасном, в виде зари со стаей зимородков да журавлей, совершенно подобной тем утренним тонам, что пробуждают меня каждодневно на бульваре Монморанси, — а также саксонские тарелки, что томней в своей грациозке, в усыпленности, в анемии своих роз, претворенных в фиолет, в красно‑лиловых раскромсах тюльпана, в рококо гвоздики или незабудки, — а также севрские тарелки, зарешеченные тонкой гильошировкой белых своих желобочков, в злате мутовчатом, или с завязывающейся, на жирном днище подцветки, пикантной выпуклостью золотой ленты, — и наконец всё это серебро, по коему струятся мирты, что признала бы Дюбарри
[24]. И что, может быть, столь же редкостно, так это совершенно выдающееся качество кушаний, подаваемых здесь к столу, — пища приготовлена искусно, стряпана как парижане, необходимо сказать, забыли вкушать на великолепнейших обедах, она напомнила мне изысканнейших поварят Жана д’Ора. Взять хотя бы эту гусиную печенку и забыть о том безвкусном муссе, что обычно ею именуют, и немного осталось мест, где обыкновенный картофельный салат кухарили бы из картофеля столь же крепкого, как японские пуговки слоновой кости, с той же патиной, что на костяных черпачках, с них же китаянки льют воду на рыбешку, которую только что поймали. Венецианское стекло предо мной — роскошные алеющие самоцветы, окрашенные изысканным леовийским, приобретенным у г‑на Монталиве, и какое же упоение предвкушать глазами, и даже, с позволения сказать, как говорили во время оно, своим брюхом — калкана, у которого ничего общего с тухловатыми калканами, подаваемыми на роскошнейших пиршествах, чьи кости в спинках от несвежести торчат, но калкана, которого подают не в том тесте, что приготовляют под именем белого соуса столькие шеф-повары почтенных жилищ, но под настоящим белым соусом, изготовленным на масле по пять франков за фунт, — калкана, поданного на прекрасной чинхонской тарелочке, пронизанной пурпурными царапинками заката, над морем, где на потеху расплавались лангусты, в пунктирчиках шероховатых, выраженных необычайно — будто их размазали по трепещущим панцирям, а на краешке тарелочки — выловленную удочкой юного китайца рыбешку, что просто чарует перламутроблестяще-серебристой лазурью своего брюшка