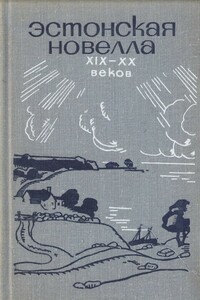Обретенное время - страница 54
Замечая, что шествие г‑на де Шарлю проявляет в сумраке каких-то подозрительных личностей, что они скапливаются немного позади, я не мог решить, хочет ли он, чтобы я оставил его, или же напротив, чтобы я сопровождал его дальше. Так встретив старика, страдающего частыми эпилептиформными припадками, и уяснив себе по непоследовательности его поступков, что приступ, по-видимому, неминуем, мы задаемся вопросом, нуждается ли он в нас, как в возможном подспорье, или же скорее мы опасны ему как свидетели, от которых он хотел бы скрыть припадок, одно присутствие которых — тогда как полный покой помог бы ему справиться с затруднением, — быть может, приближает падучую. Но в случае больного степень вероятности предполагаемого события определяется по походке — он пишет кренделя, как пьяница. Тогда как в случае г‑на де Шарлю эти многочисленные расходящиеся позиции, предзнаменование вероятного инцидента, — хотя я не мог решить, стремится ли он к нему, или боится, что мое присутствие помешает его осуществлению, — представлялись какой-то хитроумной мизансценой, в которой был задействован не сам барон, шествовавший прямолинейно, но цельный круг фигурантов. Но, судя по всему, он все-таки предпочел избежать столкновений и утащил меня за собой в поперечную улицу, где было еще темней, чем на бульварах, но тем не менее и там на нас постоянно сыпались, если только не к нему они все сбегались, солдаты всех армий и наций — юношеский прилив, одолевший в утешение г‑ну де Шарлю ту бешеную стремнину, что унесла мужчин на передовые в первые дни мобилизации и образовала в Париже пневматическую пустоту. Г‑н де Шарлю без устали выражал свое восхищение мелькавшими у нас перед глазами блестящими униформами, которые превратили Париж в какой-то космополитический центр, в какой-то порт, столь же ирреальный, как ведута художника, выстроившего несколько зданий, чтобы на их фоне собрать самые разнородные и пестрые костюмы.
Он сохранял прежнее уважение и привязанность к дамам, которых обвиняли в капитулянтстве, как раньше к дамам, уличенным в дрейфусарстве. Он сожалел только, что, унизившись до политики, они дали повод «газетным пересудам». Его отношение к ним не изменилось. Ибо легкомыслие барона носило систематический характер, и род, в совокупности с красотой и прочими достоинствами, был чем-то нетленным, в отличие от войны и дела Дрейфуса — явлений заурядных и мимолетных. Если бы герцогиню де Германт расстреляли за попытку сепаратного мира с Австрией, в его глазах она нисколько не утратила бы своего благородства, и опозорилась бы не более, чем с современной точки зрения — Мария Антуанетта, приговоренная к гильотине. В такие минуты г‑н де Шарлю, великодушный, как своего рода Сен-Валье или Сен-Мегре[98], прямой, несгибаемый, торжественный, говорил степенно, ничем не обнаруживая манер, изобличающих людей его пошиба. И все-таки, почему никто из них не может говорить нормальным голосом постоянно? Даже теперь, когда его голос гудел басовыми тонами, он фальшивил, словно нуждаясь в настройщике.
Впрочем, г‑н де Шарлю не знал куда деть голову в буквальном смысле этого слова, и часто вскидывал ее, досадуя, что не взял с собой бинокля, хотя он ему вряд ли бы помог — из-за позавчерашнего налета цеппелинов, разбудившего бдительность общественных властей, было много солдат прямо в небесах. Я заметил аэропланы несколькими часами ранее, они показались мне какими-то насекомыми, коричневыми пятнышками в вечерних небесах; но теперь они улетели в ночь, и потухали в ней как мерцающие фонари, как тлеющие головешки. Может быть, мы оттого переживаем столь сильное чувство красоты, глядя на эти мерцающие земные звезды, что они заставляют нас смотреть в небо, а обычно мы не часто поднимаем к нему глаза. Теперь на Париж, как в 1914-м на Париж, беззащитно ждавший удара врага, падал неизменный древний свет мертвенно и волшебно ясной луны, струившей на еще нетронутые монументы бесполезную красоту своего сияния, — но так же, как в 1914-м, и более многочисленные, чем тогда, помигивали многочисленные огоньки, то с аэропланов, то от прожекторов Эйфелевой башни; ими управляла умная, дружеская и неусыпная воля, и я испытывал ту же признательность, то же чувство покоя, как в комнате Сен-Лу, в одной из келий военного монастыря, где в расцвете юности учились без колебаний жертвовать собой ревностные и дисциплинированные сердца.