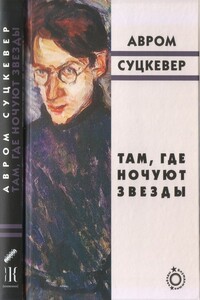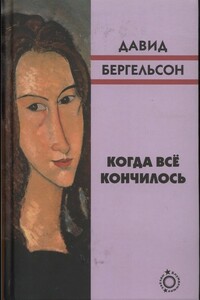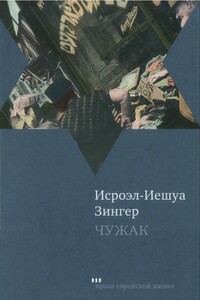… Семнадцать…
Я знал это и без него. Прекрасно помнил, что там дан готовый ответ: ведь и царь Давид «вошел в дом Божий и ел хлебы предложения»… Кадык пастора Фишельзона судорожно бегал вверх-вниз; нос мистера Клепфиша вытянулся еще больше, чем обычно; перепуганные евреи смотрели на меня умоляющими глазами, как невежды на ученого талмудиста-проповедника, а мистер Ганз все теребил мой рукав:
— Скажи ты уже, болван, чего молчишь…
И тут я не выдержал. Что-то закрутилось в горле, и смех, громкий, здоровый, свободный, вырвался из меня и загремел в притихшей кирхе:
— Ха-ха-ха-ха-ха!..
* * *
Русский купец, его жена и дочки орали друг на друга, размахивая руками. Калека что-то бормотал, рыжая девица билась в истерике, а мистер Ганз и мистер Клепфиш, сопя, хватали меня за руки и визжали:
— Жрать ходил, ворюга! Такого в еврейский дом на порог нельзя пускать!..
И надо всеми возвышался Иисус в терновом венце, съехавшем набок. Пучеглазый, с русой бородкой, которая в огне свечей казалась рыжей, он выглядел сейчас точь-в-точь как служка из местечковой синагоги…
1923
Тяжелые железные ворота больницы святой Магдалены открылись и пропустили внутрь белый фургон с красным крестом. Из фургона появились двое мрачных санитаров в мокрых от дождя накрахмаленных халатах.
«Девушки» мигом оставили свои наблюдательные посты у чисто вымытых больничных окон, откуда они постоянно высматривают фельдшеров и приходящих врачей, и кинулись к двери.
Они прекрасно знают: если сейчас столкнутся со сторожем Павелеком, придется им отведать плетки. Это как пить дать. Перед визитом врача Павелек очень строг, лучше ему не попадаться. Но белая карета привезла новеньких, а может, и не новеньких, а старых знакомых, и пациентки, полуголые и растрепанные, быстро сунув ноги в шлепанцы, бросились вниз по лестнице.
Мрачные санитары в мокрых накрахмаленных халатах, увидев стайку «девушек», схватили кнуты и, щелкая ими, закричали, как на гусынь:
— А ну кыш!.. Кыш отсюда!..
«Девушки» испуганно попятились, прикрывая руками лица:
— Ребята, не надо, пожалуйста…
Санитары немного смягчились.
— Новеньких привезли, — усмехнулся один. — Совсем свежие, муха не сидела…
«Свежие» молчали.
Стояли, пряча лица в воротники коротких темных пальто. Напуганные, смущенные, они походили на юных монашек, которых привезли сюда замаливать какой-то маленький, очень маленький грех.
Мокрые деревья, кучи опавших листьев, стены с высокими, чистыми окнами и тяжелыми дверьми, испачканными около ручек до черноты, — все было незнакомым и страшным. Но больше всего их пугали летящие над двором аккорды невидимого пианино, далекие, одинокие и чужие, и новые пациентки дрожали в коротких пальтишках, как потерявшиеся, испуганные дети.
«Девушки» подошли ближе. От них пахло уксусом, марлей, постельным бельем и еще чем-то таким, чем всегда пахнет от арестантов, солдат и больничных пациентов. Они пытались догадаться, что за болезни у новеньких, и сыпали непонятными иностранными словами, которых нахватались у фельдшеров. Этот запах и незнакомые слова перепугали новеньких еще сильнее. Они отступили назад, пытаясь спрятаться друг за друга, и «девушки» зло, визгливо расхохотались.
— Ишь ты, недотроги какие… Маменькины дочки…
Одна, с рыжими нечесаными патлами и пустой глазницей, быстро приподняла подол, дернув щекой:
— Ну что, девочки, по укольчику сейчас?..
Другая, с черной деревяшкой вместо носа, целясь длинными растопыренными пальцами в глаза новеньким, прошипела, как кошка:
— Девочки, говоришь? Посмотрим, что за девочки…
Но вдруг послышался громкий хлопок в ладоши и испуганные крики:
— Павелек идет! Павелек!..
«Девушки» с визгом и смехом бросились прочь и исчезли за испачканными дочерна высокими дверьми.
Павелек, толстый коротышка с жирными, ярко-красными губами, в своем белом островерхом колпаке похожий на повара из хорошей столовой, неторопливо подошел и остановился, занеся над головой плетку. Не убежала только одна, Маня Шерман. Павелек знал, что ее должны сегодня выписать, ей остался только последний осмотр, и задумался: «Протянуть разок или не стоит?..»