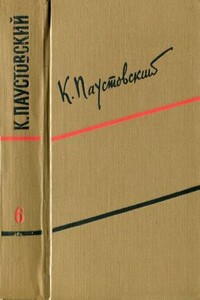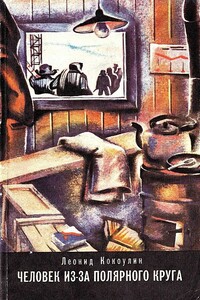А всякую ночь, Любава, вижу я тебя во сне. Проснусь, и жалко, что проснулся, что исчезла ты, вот я целый день бегаю по тайге и ночи дожидаюсь, чтобы тебя опять повидать. Мила ты мне, Любавушка, ох как мила…»
Уронив руки на стол, Любава оторвалась от письма и с неожиданной ясностью представила, как барахтается он в воде и некому ему помочь, и негаданная жалость к Митьке, беспокойство охватили ее. Высоко поднималась ее грудь, плечи вздрагивали, и казалось Любаве, что незаслуженно обижала она Митьку, обходила вниманием в те немногие месяцы, что прожила с ним. Стыдно стало за себя, и она, украдкой, оглянувшись на Пелагею Ильиничну, прижала письмо к губам.
«В тайге много чего случается, — писал Митька во втором письме. — Тут вот не залег с осени медведь и шастает теперь по моему участку. Иду я как-то в обход, капканы проверяю да настораживаю. Тихо в тайге. Лишь дятлы стукочат по сухим листвянкам, да один раз белка цвыркнула на меня. Снег был свежий, тяжело идти, вот я и припозднился. Домой уже в шестом часу повернул, когда мглиться начало. Не прошел я и десяти метров по своей лыжне, ба — следы. В аккурат по моей лыжне шатун топал. И так до самого зимовья. Караулил, значит. И вот так он за мною уже неделю ходит. Ну ровно тоже в промхоз на сезон нанялся.
Мне тебе, Любава, многое сказать хочется, да слов не хватает. Люблю я тебя. Вот как крепко люблю и скучаю по тебе непомерно. А хорошо ли это — не ведаю. Мне бы только знать, что ты хоть иногда думаешь обо мне, а уж я…»
Скрипнула кровать в комнатушке Пелагеи Ильиничны, Любава вздрогнула, и вдруг вся не досказанная Митькой боль с такой силой навалилась на нее, что стиснула она руками виски и тихо закачалась над столом, ничего не видя перед собой…
16
День выдался ясный, сочный обилием света. Схваченное изморозью солнце с трудом оторвалось от земли, но оторвалось, родимое, и пошло карабкаться к небесным кручам под восхищенным Митькиным взглядом. Ах, какой это был чудесный день, таких дней Митька еще не знавал в своей жизни. Он торопливо попил чай, быстренько собрал походный рюкзачок и, переполненный счастьем оттого, что бежит на вертолетную площадку, чуть ли не первый раз в жизни запел. Митька запел и опешил, перепугался своего голоса, до того он странно для слуха прозвучал, а потом захохотал, встал на лыжи и побежал по тайге.
Все в это утро радовало его. И белка, неожиданно застрекотавшая над его головой, и снег ослепительно белый со множеством следов, в которых он сейчас и не думал разбираться. А в одном месте он заметил красивую, зеленовато-желтую, чуть побольше воробья птаху, увлеченно вьющую себе гнездо.
— От дура, — изумился Митька и даже бег свой приостановил. Пристроившись на самой верхушке елки, птаха старательно подгоняла прутик к прутику, а вскоре рядом объявился развеселый, весь в вишневых тонах, дружок птахи. Что-то легкомысленное просвистав, он, однако, принялся помогать подруге, накрывая гнездо игольчатым сплетением ветвей. — Сбесились, — решил Митька и дальше побежал, ловчее перекинув карабин за плечо.
Привольна тайга, просторна тайга, и чудес в ней — не счесть. Ну вот те же птахи, с чего им сейчас гулять задумалось, чем они свое потомство кормить будут? Но знает Митька, найдут птахи прокорм для потомства, все это у них предусмотрено получше, чем в бухгалтерии промхозовской. Ведь пока управлял промхозом хитрый и изворотливый человек по фамилии Скрипикин, разве можно было мечтать Новый год дома встретить? Какое там! «Нашей стране, Родине нашей нужна пушнина, и мы обязаны ее дать», — так говорил Скрипикин, но лучшие соболиные шкурки неизменно оказывались в его домашней коллекции. За пять лет своего правления так и не выбрался Скрипикин в тайгу, так и не узнал, что это такое и с чем его едят. Другое дело при Егорке Просягине. Этот если в район и пойдет, то лишь с собственными кулаками, чтобы по столу грохнуть да чего такого сказать, чтобы им, промысловикам, в тайге полегче было. Новый год он уже и отстоял, а еще собирается рации для каждого охотника пробить. И вот ведь хитрое ли дело, а не дается. Нет еще пока раций, и хоть пропадай промысловик.