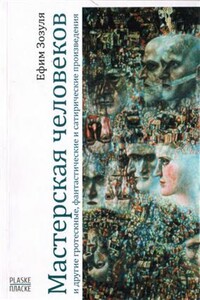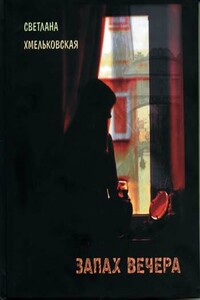Вот они пришли и сели на развилке дорог. Теперь тянулись две черные ленты, и чем дальше, тем больше становилось расстояние между ними. Зачем расходятся дороги? Зачем они ищут себе другие миры и уводят туда людей? Впрочем, дороги об этом молчат, они гораздо скрытнее, чем думают о них беспечные и веселые люди, только начинающие свой путь. Это им, беспечным людям, кажется, что дорога лежит от пункта А до пункта Б. Так просто. Как, должно быть, смеются над этим дороги, в том числе и та, которая ведет от пункта А до пункта Б.
И вот они сидели у самого устья двух дорог, тоненько вытекающих из светлого березнячка, за которым был их дом, и их деревня, и их речка, и их луга, замыкаемые высокими скалистыми хребтами. Они были не первыми и вряд ли будут последними. Они это знали. Знали еще раньше, чем пришли сюда, и еще раньше, когда не знали, что все-таки придут сюда. Так уж устроена жизнь.
— А я приеду и напишу тебе… Ты жди.
— Ты не расхотел ехать?
— Там еще все только начинается. Меня должны встретить хорошо.
— Мне вот возвращаться в четыре стены… Представляешь?
— Ты только до осени потерпи. Я там разобьюсь, а все сделаю.
— Дом-то… Эх, Колька, Колька…
— Пойду, и ты иди. Не сиди и не жди.
— То-то мне тогда змея приснилась. Длиннющая. А ты просыпаешься и говоришь, мол, поеду. Вот тебе и сон в руку.
— Бабкины сказки. Ты поменьше слушай.
— Ну да. Уже и заговорил. От дома версты не отошел, а уже заговорил.
— Пойду…
— Да иди. Иди! Чего встал?
— Жалко.
— Чего?
— Пойду!
И дорога, та, что налево, в буерак и по косогорчику, медленно всосала его. А она, Танька Охлопкова, сидела на земле, приглаживая ладонью желтую и пыльную придорожную траву. Такую же желтую, как его волосы, такую же упрямую, как он сам.
Зачем уезжают люди? Когда все хорошо, когда все налажено и приобретено далеко не легкой жизнью — зачем? От дома, от жены, которой еще и двадцати не сравнялось, которая еще не налюбилась и не насмотрелась на тебя, — зачем? Шут его знает. Зачем-то уезжают. Блудные сыны всех веков и всех народов кочуют по земле. Может быть, в них, как в птицах, живет древний инстинкт? И идут они по тем местам, стремятся к тем уголкам земли, повинуясь неведомой силе инстинкта, велению памяти, по которым проходили их пращуры. Может быть, есть в них это, и мы, досконально изучив и описав инстинкты пернатых, совершенно забыли о собственных инстинктах. Как бы то ни было, а по пыльной дороге, налево, в буерак и по косогорчику, ушел человек, оставив на развилке двух дорог не то девочку, не то женщину с сухими глазами и высоким красивым лбом. Оставил!..
«В четырех стенах, на семи ветрах». А половицы скрип-скрип. «Закручинилась, запечалилась». А капли из рукомойника тонь-тонь. «Ах ты, душечка, красна девица». А сердце по вечерам так да так. «Горемычная да судьбинушка».
— Горюешь? — спрашивают.
— С чего бы это? — не соглашается.
— Не война, а вдовушка.
— Идите вы…
Под окном яблонька-дикушка. И загадала. Как появятся яблочки, так и быть письму.
А пока ходила на работу, напустив челочку на высокий красивый лоб. Работа простецкая. В магазине за прилавком, у всех на виду, как комар на носу.
«Сорок да сорок — рупь сорок? Папиросы брал? Нет. Плати два сорок». «Аршин — на кувшин, потянется — не лопнет».
А и торговали же, если такие прибаутки остались. А тут:
— Тетя Маша, с вас 1 рубль 91 копейка.
— Как так?
— Да так.
— А ну считай еще раз.
— Кило сахара — 90 копеек?
— Ну.
— Ложим. Пачка чая — 36 копеек?
— Дальше.
— Ложим. Пять пачек «Прибоя» — 60 копеек.
— Да вроде.
— Пять коробков спичек — 5 копеек?
— Сколько всего-то насчитала?
— Один рубль 91 копейку.
— Вот незадача. А я дома подсчитывала, так у меня один рубль и 87 копеек выходило. А ну положи еще раз. Я что-то не уследила толком-то.
— Кило сахара…
А вечером тоска. Все переделано, сама ухожена и у окошка сидит. Смотрит. Закат сойдет, ночь наступит, луна появится, а она сидит, в окошко смотрит.
— Ночи, словно в Сочи, любить да не оглядываться.
Это Люся, Танькина подружка. Отчаянная девка.
— Тань, ночевать пустишь?
— Иди.
— Да я не одна.
— …
А скучно-то как. И всю ночь — скрип-скрип, тонь-тонь, так да так. Тошно.