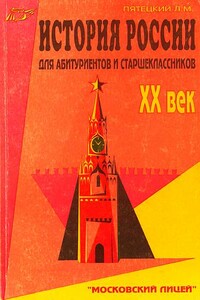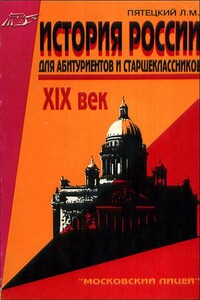«Но Петру было не до впечатления, оставляемого им в Западной Европе, когда он, наняв в Голландии до 900 человек всевозможных мастеров, от вице-адмирала до корабельного повара, и истратив на заграничную поездку не менее 2,5 миллионов рублей[9], в мае 1698 г. спешил в Вену, а оттуда в июле, внезапно отказавшись от поездки в Италию, поскакал в Москву по вестям о новом заговоре сестры и о стрелецком бунте» (В. О. Ключевский).
Еще до приезда Петра мятеж был подавлен правительственными войсками. Стрелецкий бунт 1698 г. воскресил в Петре детские впечатления 1682 года. Петр решил возобновить розыск, причем все руководство им он взял в свои руки. «Я допрошу их построже вашего», — говорил царь Гордону. Уже на четвертый день после возвращения в Москву царь велел доставить в столицу четырех оставленных в живых руководителей стрелецкого бунта 1698 г.: Василия Зорина, Якова Алексеева, Василия Игнатьева, Аникиту Сидорова и других участников мятежа. К розыску Петр привлек самых доверенных лиц: руководителя Преображенского приказа Ф. Ю. Ромодановского, князей М. А. Черкасского, В. Л. Долгорукова, П. И. Прозоровского, Б. А. Голицына и других вельмож. Петру важно было узнать роль царевны Софьи в бунте. («Царевну Софью Алексеевну к себе во управительство имать хотели ли?..») Но надежды царя добыть прямые улики против Софьи не оправдались.
Судьба стрельцов, участвовавших в бунте, была предрешена Петром еще до завершения следствия: «А смерти они достойны и за одну противность, что забунтовали и бились против Большого полка».
30 сентября 1698 года 201 стрельцу зачитали царский приговор «о предании воров и изменников и крестопреступников и бунтовщиков» смертной казни. Все осужденные были повешены.
Следующая массовая казнь состоялась 11 октября 1698 года. Вторая партия обреченных насчитывала 144 стрельца. В казнях участвовали Петр и его приближенные. Царский фаворит Алексашка Меншиков хвастался, что самолично отрубил головы двадцати осужденным. (Посмотрите на картину художника В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни». Что запечатлел художник на своей картине?)
Еще в ходе «Великого посольства» Петр I убедился, что сложилась неблагоприятная обстановка для борьбы с Османской империей (Турцией). Европейские страны, и, в первую очередь, союзники России по антитурецкой коалиции (Австрия, Венеция и Польша), не готовы были в это время к войне, а действовать в одиночку против могущественной Османской империи Петр I не решался. России пришлось довольствоваться перемирием с Турцией на два года (перемирие было заключено в январе 1699 года).
Чтобы добиться более прочного соглашения с Турцией, Петр I отправил своего уполномоченного, дьяка Емельяна Украинцева, из Таганрога[10] в Константинополь на военном корабле. Петр I принял совет П. Б. Возницына отправить посольство не традиционным путем, по суше, а непременно морем и на военном корабле. Почему же совет Возницына импонировал царю? Во-первых, возможностью опробовать в море свое детище — корабли, а во-вторых, удобным случаем для России предстать перед Османской империей в новом качестве морской державы. Морскому путешествию Украинцева через Черное море в Стамбул придавалось значение военной демонстрации перед султанским двором; турки должны были наглядно убедиться в наличии русских морских сил, способных угрожать их берегам.
7 сентября 1699 г. корабль «Крепость» под артиллерийскую канонаду салюта бросил якорь против султанского дворца в Стамбуле. Появление русского корабля вызвало в Стамбуле сенсацию. Турецкий султан и визирь решили осмотреть русский корабль. «О твоем, великого государя, корабле немалое здесь у самого султана и у всего народа подавление было…», — доносил Украинцев Петру I.
В результате длительных переговоров между Россией и Турцией 3 июля 1700 г. было подписано перемирие на 30 лет. Константинопольский договор включал 14 статей. 1-я предусматривала перемирие на 30 лет; 2-я предусматривала передачу Россией приднепровских городков, предварительно разоренных, Османской империи. 4-я статья договора оставляла Азов со всеми городками во владении России. Петр I с нетерпением ожидал в Москве вести о мире, который развязывал ему руки для уже решенной войны со Швецией.