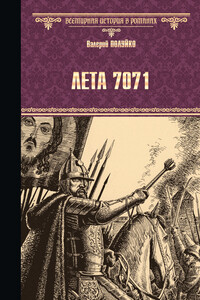В открытую дверь почти не тянуло. Чад и рыхлая копоть, присползшая с крутых сводов на стены, казалось, спеклись от жары в густую, вязкую массу, и теперь она медленно, тягуче, как размягчённая смола, подтекала в узкий зев двери. За дверью кромешная темь — как бездна.
— Васька, подай квасу! Горло иссерхло.
Иван сидел у стены — подальше от горна, от таганов. Уставший, даже измученный, без кафтана, в нагольной миткалёвой рубахе, потемневшей и местами уже захрясшей от пота; на груди его, будто громадный, впившийся в него паук, висел большой серебряный крест.
В стороне от Ивана, посреди застенка, за невысоким, грубо сколоченным столом, устроился дьяк приказа Самойла Михайлов с допросным столбцом, придавленным к столешнице тяжёлой медной чернильницей, чтоб не сворачивался в свиток.
Изнеможённый, отрешённо и тупо, как мертвец открытыми глазами, смотрел дьяк сквозь горячую пелену чада — туда, где освещённый багровыми отсветами горна, будто весь залитый кровью, мучился поднятый на дыбу Данила Адашев. Лицо у дьяка было волглое, пропитанное потом, истомлённое, безучастное и оттого по-особенному страшное; рука его бессильно выпласталась на столе, будто пригвождённая к нему торчащим между пальцами пером. Выдохся дьяк: всю ночь длилась пытка. Данила замучен до полусмерти, но ни в чём не сознается, не признает за собой никакой вины. А царь не отступается… Изморил себя не меньше Данилы, а не отступается.
Васька Грязной подал Ивану кувшин с квасом, принесённый им из холодного погреба. Иван жадно поприхлебнул из него, поморщился от ломящей студёности напитка, резко встал с лавки, подошёл с кувшином к Даниле — тот из последних сил поднял перед ним голову.
— Испей, Данила. — Иван приставил горлышко кувшина к лицу Адашева и, нисколько не заботясь, попадёт ли хоть капля ему в рот, вылил весь кувшин ему на лицо.
— Спаси Бог тебя, государь, — тихо, с искренней благодарностью сказал Данила, облизывая влажные губы. — Уж два дня во рту капли не было.
Иван передал кувшин стоявшему рядом Малюте[79], спокойно, устало, с укором и даже как будто с жалостью сказал Даниле:
— Упорством и неразумностью обрёк ты себя на муки, Данила. Бог свидетель, ни пытать, ни казнить тебя не сбирался я. Думал, вспомнишь мою доброту, сам всё расскажешь. Я ве́ди помнил службу твою, Данила, подвиги твои ратные помнил... За них я повсегда тебе милостью воздавал. Даже коли на братца твоего зломудрого опалу положил и вон его с глаз своих отогнал да тестя твоего строптивого за сторожи посадил, твоего благополучия я не порушил, Данила. Ты жил покойно, не терзаемый за них. Мести и зла моего над собой не терпел, и никаких утеснений, и неправд никаких! Но ты презрел мою доброту, Данила, и клятву, которой клялся на кресте, презрел...
— Нет, государь, — твёрдо вышептал Данила.
— Презрел! — напряг голос Иван. — И також поползнулся в измену... В отместку за братца своего! Кончилось его время, и кончилась твоя верность.
— Нет, государь...
— Да! — заорал в самое лицо Данилы Иван. — Да! Да! Ты подговаривал сродственника своего, Шишку, да князя Фуникова сдать литвинам Стародуб!
— Нет, государь...
— Ты! Чтоб изменою да городом моим милостей у Жигимонта[80] приискать, к коему ты, собака, давно уж намерился переметнуться... С Курбским разом! Пусто вам стало в отечестве без Алёшки-то!
— Нет, государь... Облиховал меня Шишкин, живот свой спасая. Не подбивал я его на измену, не единачествовал с ним... Снова клянусь тебе в том!
— Не клянись. Сам сознался, что ведал про Шишкин умысл. И не донёс!
— Ведал... Да не допряма. Единый раз всего и обмолвился он предо мной. Отговаривал я его... Чаял, внял он моим отговорам. Чаял, побережёт его Бог от измены... Потому и не донёс.
— Складно у тебя всё, Данила. И ну как на правду-то похоже! — Голос Ивана опять стал спокойным и ровным, с лида сошла гневная натуга, только руки, напряжённо сцепленные за спиной, выдавали его злобу и ярость. — Умён ты! Сколь уж водишь меня из стороны в сторону — и всё ворочаешься на круги своя. И крепок! Вон как на пытке стоишь! Иной бы и веру свою уж предал, а ты общников боронишь. В други бы мне такого, ан нет — враг. Враг! — вздохнул надсаженно Иван и, понурясь, отошёл от Данилы, сел на лавку, устало вытянул ноги.