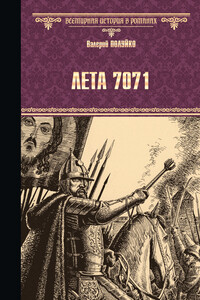— Я, стало быть, из тех?
— Ты не из тех... Сказала уж: своим движешься, присным. Вижу сие и радуюсь! Да ве́ди ты мне родной, после Володимера да внучат кровней тебя нету! Станется лихо, так хоть тебя да Володимера уберечь. Я изопью свою чашу, а вас бы с ним охранить.
Но Пронского и это не проняло. Не получалось нынче у Евфросинии задуманное, не удавались тонкости привычной для неё игры, и Пронский легко разгадывал её уловки. Но даже и там, где она была искренна, он тоже подозревал хитрость и не верил ей. Это было видно по его ехидной невозмутимости, которая больше всего другого раздражала Евфросинию. А как же хотелось ей поддобриться к нему, подкупить, тронуть своей охранительной заботой, открыть этим ключиком его душу, которая всё ещё оставалась для неё загадкой, и, быть может, избавиться наконец от всех своих сомнений и недоверия к нему или уж утвердиться до конца. Очень хотелось, да вот не получалось.
— Кабы и вправду хотела уберечь, не позвала бы, — усмехнулся Пронский.
— Потому и позвала, что хочу уберечь, — не сдавалась Евфросиния. — Могла и иначе поступить: ты делал бы и не ведал, что делал. Ве́ди могла же?
— Могла, — согласился Пронский, но вряд ли хоть чуть поколебался. Казалось, у него и на это имелось возражение, да он почему-то сдержался, не высказал его.
— Позвала, чтоб тебя самого спросить, не утаив, что веры в успех своего дела во мне самой не больно много. Сомнений куда больше.
— Вот как?! — удивился Пронский. Этого от Евфросинии он, видать, и вправду не ожидал.
— Буде, скажешь, и тут лукавлю? Но ты не хуже меня знаешь, как мало у нас надежд. Ивашку можно одолеть токмо одним — единством. Но как раз единства-то нам и недостанет. Мы можем поднять Новоград, Псков, мы можем собрать там большое войско и поставить во главе его лучшего московского воеводу — князя Михайлу Воротынского...
— Воротынского?! — такого и вовсе не ожидал Пронский.
— О нём и собралась с тобой говорить. Да, Воротынского. Мы можем вызволить его из заточения и дать ему войско... Но никакое войско, никакие воеводы и их самое высокое ратное искусство не принесут нам победы, ежели мы не поднимем супротив Ивашки всех, всю Русь.
— То ты больно широко размахнулась, тётушка. Всю Русь тебе николи же не поднять. Бо неведомо, за кого она, та всея Русь? Может, она и супротив тебя, и супротив его? Да и что оно такое — всея Русь? Как ты её себе представляешь?
— Всея Русь — то святая правда, князь. А она, правда, всегда супротив тех, кто попирает eel Приходит час, и она восстаёт на неправых и злобных!
— То всё, тётушка, красные страсти. Святая правда, всея Русь! Всея Русь тем и не годна для образа единой святой правды, что она — всея. Тьма-тьмущая душ на её просторах и такая же тьма-тьмущая правд, и в Рязани, как сказывается, не плачут по псковскому недороду.
Евфросиния даже вздохом боялась перебить Пронского. Опустила глаза, как провинившаяся, и внимательно слушала, торжествуя в душе, что наконец-то удалось пробить его невозмутимость.
— И не правда святая восстанет на него, а зло. Извечное человеческое зло, — продолжал решительно Пронский, не замечая резкой перемены в Евфросинии. — И ты потщись ещё пуще, ещё яростней ополчить то зло, оставив свои красные страсти и пустые упования. Иначе все отвернутся от тебя... Даже я!
— И ты? — тихо, смиренно переспросила Евфросиния.
— Да како ж иначе? Какая ты вождевица, ежели не веришь в успех своего дела? Кто же захочет связывать с тобой свою судьбу? Посуди сама!
— И что, буде, даже предашь меня? — совсем без тревоги, спокойно спросила Евфросиния, будто и в самом деле ей это было безразлично.
Пронского словно хлестнуло это её спокойствие. Он пристально посмотрел на неё, всхмурился, тяжело, неприязливо выговорил:
— Даст Бог, уберегусь сего греха.
Теперь Евфросиния твёрдо знала: не убережётся.