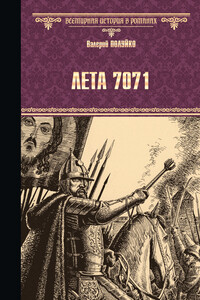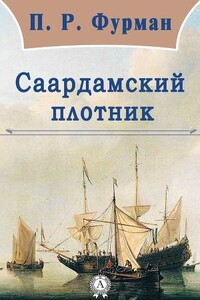— Я себя бороню, тебя, детей наших... Ибо он не пощадит и детей! Уразумей сие! Единый мой опрометчивый шаг, и что станется с нами — ведает лише Всевышний. Буде, он токмо и ждёт, когда я споткнусь, чтоб совсем подразить мне ноги. И на Старицу зарится — ты не больно далека от истины. Зарится, да в душе, и от единой корысти и несытства своего не посягнёт на меня. Так непроста чести своей не станет ронять. Имя своё государское он высоко подъемлет. Прежние государи в такую высость и не учинялись, не уповали тако собою. Он пред всеми окрестными государями христианским всесветным заступником выставляет себя, радетелем о правде и добротворцем, и вдруг — посягнуть на брата своего статков[40] его ради! Нет, Овдотьюшка, не тот сё человек. Ты не знаешь его, а я знаю. Он слово изречёт и слушает, как оно отзовётся окрест! Шаг ступит, рукой поведёт и смотрит — как запечатлелось сие на лице вселенной! Во всех всюдах — в Цареграде, в римских цесарских странах, в Аглицкой земле, в Немецкой — он жаждет слыть доброжелательным и великоправедным государем, и бережёт того накрепко, чтоб в те пределы ни единое худое слово о нём не прозябло. А на меня посягнуть — то ж не на Воротынского, не на Бельского, хотя и про их опалы он строго приказывает послам отнекиваться и всячески заминать истину. Нет, Овдотьюшка, не сыскав на Старице великой вины, он на меня не посягнёт. То я ведаю накрепко и берегусь дать ему повод, и матушку удерживаю от того, в тебя остерегаю...
Владимир говорил ещё долго, почуяв, как притихла, присмирела и Евдокия, то ли остепенённая его доводами и убеждениями, то ли затаившаяся в ожидании его ласк. Над ней он ещё имел власть — власть мужа-господина, которого она в знак покорности разула перед их брачным ложем, и власть мужчины, который был ей мил и желанен, но круто пользоваться этой властью не решался, боясь вспугнуть её искренность и доверчивость, а более всего — потерять в ней последнего человека, которому мог ещё довериться и сам, и потому всегда был с нею мягок, терпелив в уговорах, дотошен в доводах...
Сейчас он тоже как будто смирил, уговорил Евдокию и втайне радовался, что хоть тут одолел свою мать. Настроение Евдокии, соприкоснувшейся с тайнами и страстями Старицы, тревожили его не менее всего остального: заиметь в жене то же самое, что он имел в матери, было бы для него самым большим несчастьем. И не только для него, но и для самой Евдокии, ибо то, что было позволено и даже простительно Евфросинии, не позволено и непростительно было Евдокии. Разница между ними была огромна: Евфросиния сильна — и именем, и духом, а более всего той тайной, скрытой за нею силой, которую притягивало к ней её имя и её неукротимость. Евдокия же слаба и беззащитна, и даже сам князь не смог бы защитить её, разразись над ней царская гроза. Стоило ей вызвать гнев Ивана, и он мог повелеть князю отправить её в монастырь, потому что Евдокия была у него второй, и, стало быть, по христианским законам, не женой, а прелюбодейкой, женимой[41], которую Иван, по праву старшего в роду, мог терпеть, а мог и не терпеть.
Владимир собирался сказать Евдокии и об этом, но, видя, что она притихла, успокоилась, поддалась его уговору, передумал, поприберёг до следующего раза, понимая, что этого их разговора хватит ненадолго и Евдокия снова взбудоражится, снова взметнётся в ней воинственная смута. Не взметнуться она не могла! Владимир уже знал, что затронула в её душе мать, знал, какие мысли пробудила и какими соблазнами искусила её дремавшее до сей поры честолюбие; и когда он спрашивал, во имя чего она готова пойти на позор, на смерть, принять на душу самый тяжкий грех, то лишь делал вид, что не знает — во имя чего? А на самом деле знал. Царский венец, который ранее представлялся ей чем-то неотъемлемым, неотделимым от Ивана — частью его естества, знаком сошедшего на него верховного произволения, теперь уже виделся ей совсем иначе — как нечто самостоятельное, существующее само по себе, вне всякой предопределённости и даже вопреки ей. Теперь она понимала, что этот венец может увенчать и другую голову, и вовсе не по воле вышних, священных сил, как казалось ей досель, а по воле совсем иной силы — земной, доступной, с которой можно договориться и даже подкупить её — либо деньгами, либо посулами, а уж всё, что будет потом, освятить вышней волей. И если ради этого потребуется свершить тяжкий грех — она готова. И если на этом пути её ждёт позор или смерть — она примет и их.