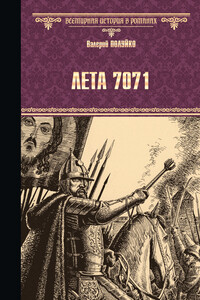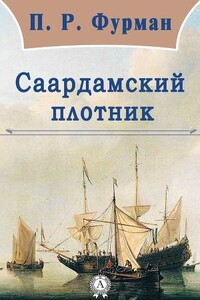Только это было в её словах, и ничего иного. Она не лукавила с ним, не пыталась повлиять на него — именно этим, она говорила прежде всего для себя самой, чувствуя внутреннюю потребность в этих словах, как в какой-то клятве, от которой впоследствии уже невозможно будет отступиться. Такова была вся Евдокия, такой её Владимир и знал и не знал, и потому не встревожился пуще прежнего, не насторожился, восприняв её слова лишь как чувственный порыв, как вспышку страсти, а над этим, верилось ему, он имеет власть и сможет унять, усмирить её, тем более устоять против этого сам. Другое дело — мать! Вот кто тревожил его сейчас более всего. Над матерью он не имел никакой власти и с отчаянием сознавал, что не сможет уже ни отговорить её, ни упросить: чуял он, что от искры, высеченной Оболенскими, она попытается разжечь великий пожар и не отступит, не упустит приспевшего часа.
Однажды, лет десять назад, воспользовавшись тяжким недугом Ивана, чуть было не сведшим его в могилу, она уже затевала такое[42]. Иван лежал в бреду, а из Старицы в Москву было вызвано удельное войско якобы для раздачи годового жалованья, и жалованье то раздавалось щедро, с прибавкой — игра стоила свеч. Не отступи от Ивана хворь и смерть, неизвестно ещё, кто бы выиграл в той игре. Владимир тогда и сам ходил во дворец нагонять страх на тех, кто сохранял верность Ивану и его наследнику царевичу Дмитрию. Но минувшие десять лет, которые он уже почти безотлучно прожил подле Ивана, прожил как в плену, под властью его жестокой воли и бдительным, неослабным надзором, когда, казалось, не только дела, поступки, но и мысли, и даже чувства его были известны Ивану, — эти десять лет многому научили Владимира и многое изменили в нём. Страх перед Иваном, пришедший на смену всему тому, что вбила в него мать, сделал его разумней и, как ни странно, твёрже: он уже не был тем прежним — подобным хлебному мякишу в руках своей матери, из которого она могла лепить и лепила всё, что хотела. Он нашёл-таки в себе силы противостать ей! Пусть не во многом, пусть в одном лишь, зато в самом главном — в отношении к Ивану. Здесь над ним больше не было её власти. Ничем — ни увещеваниями, ни уговорами, ни соблазнами, ни гневом, ни даже угрозой проклятья она уже не смогла бы заставить его выступить против него. Владимир не хотел больше испытывать судьбу. Он теперь ох как хорошо знал, каков облик у этой судьбы и каков нрав. Страх подстегнул его вялый мозг, и он многое передумал по-своему и на многое, на что раньше смотрел глазами матери, взглянул собственными глазами. Но эта обретённая твёрдость, эта освобождённость — пусть всего лишь частичная — от власти матери не имели в его душе никакого противовеса; дух его был слишком слаб, чтоб уравновесить в нём такие противоположности, и потому, отклонившись от матери, он неизбежно должен был склониться в другую сторону. Этой стороной была Евдокия, и стороной ещё более опасной, хотя бы уже потому, что с виду не казалась таковой. Неукротимый, неистовый дух Евфросинии, её святомученическая стойкость, неотступность, жажда мести и какие-то честолюбивые страстишки Евдокии, делающие её ещё более нежной и ласковой, — разве это было сравнимо, разве такое могло быть поставлено на одну доску?! Однако эта несравнимость была обманчивой: то, к чему прикоснулась Евдокия, пробудило в ней жизнь души, доселе лишь теплившуюся, как лампадка в её опочивальне, а это был такой родник, такой могучий источник вдохновения, с которым мало что могло сравняться и который давно уже иссяк в душе Евфросинии, ибо она лишь мучилась и изнывала от зла и ненависти, а это не вдохновляло, это только исступляло. Её неукротимость, неистовость пугала, отвращала, как предсмертные судороги, и, кроме таких же, как она сама, исступлённых и заматерелых, уже никого не могла повлечь за собой, тем более Владимира. А Евдокия повлечёт... Именно она повлечёт его на тот путь, где их будет ждать и позор и смерть, и неотступно будет идти с ним рядом — до самой последней, роковой, черты, которую переступит вместе с ним — и мужественней, чем он. Но этого они ещё не ведали, не понимали, не предчувствовали. Владимиру не хватало для этого ни чутья, ни прозорливости, да и ума тоже! Он наивно верил в свою власть над Евдокией, будучи подкупленным её чувственностью и плотской жадностью к нему, которые воспринимал чисто по-мужски, через собственное плотское, и потому считал, что держит в своих руках большее, нежели душу Евдокии. Ночная кукушка не казалась ему опасней дневной, да и сама Евдокии не считала себя способной на такое. Совершить то, чего не удалось Евфросинии?! Нет, ничего подобного Евдокии и в голову не могло прийти. Она и не стремилась к этому. Ей казалось, что не стремилась, — ни душой, ни разумом, ни волей. Никаких замыслов, никаких расчётов, ни коварств, ни хитростей не таила она в себе. Был только какой-то расковывающий порыв, чувство необычной переполненности души — чем-то таким, чего раньше она в себе никогда не ощущала, — и путаница напористых, неотступных мыслей, которые выливались в слова, в разговоры — с мужем, со свекровью, но связи между этими мыслями, разговорами и тем, что у неё было в душе, она ещё не сознавала. Ей казалось, что все эти мысли и разговоры — не её, что это только внешнее, дух Старицы, которым она невольно прониклась, а внутреннее, то, что в душе, — это её, присное, её собственный дух, прежний, безмятежный, который крепче и стойче любых соблазнов, любых страстей, нашедших на неё в Старице, Она втайне надеялась, что, как только покинет Старицу, все эти страсти и соблазны погаснут и к ней снова вернётся её былая безмятежность. Безмятежность — вот за что по-прежнему цеплялась она в себе, вот какой стеной надеялась отгородиться от честолюбивых страстей и соблазнов! Как же из этого могли возникнуть какие-то там предчувствия?