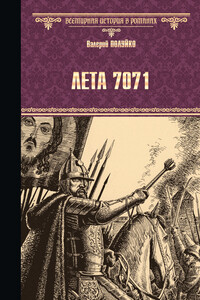— Не отрицаюся и сего... И сей грех на моей душе.
— На его душе, — жёстко поправил Иван, — Бо ты по его мысли ходил, его наущениями побуждался. Неужто ты заводил измену? Неужто ты лазутчеством ссылался[188], получая закрытые листы от Жигимонта да от гетмана Радзивилла?
— Не получал я закрытых листов. То ты верно речёшь, государь, — обрадовался Бельский.
— Вот! — обрадовался как будто и Иван или только сделал вид. — И не к тебе был сылан монах-камянчанин Исайя, что пришёл к нам из Литовской земли в свите гречина-митрополита.
— Не ко мне, государь, истинно не ко мне.
— К нему, к наустителю твоему, шёл Исайя, да к братцу нашему, к Володимеру. Сложились они на меня и учали плодить измену. Коли мы на дело своё в Литовскую землю пришли и к Полоцку подступили, тогда побежал из стану из нашего тысяцкой Хлызнев-Колычев, племянник того самого Колычева, воеводы старицкого, что был в сторожах на заде[189] в мятежном войске отца Володимерова. А чего ради побежал? Кровь израдницкая позвала?
— Того я не ведаю, государь. Вот те крест!
— Не ведаешь — верно. Как тебе было ведать, в темнице-то сидючи?! Я и не тебя спрашиваю. То вопрос рассужденья моего. Я добре вем, чего ради тот Хлызнев побежал. Володимер его направил. Да! — прибавил Иван твёрдости голосу, заметив, что и безучастный Мстиславский вдруг насторожился. — Но вот с чем? С чем направил он его к Жигимонту? Теперь уже тебя спрашиваю. Отвечай!
— Да како мне про то ведать, государь? О Володимере меж нас с князем и помину не было. Клянусь тебе!
— Клянёшься?! Лыгаешь ты, собака! — вдруг прорвало Ивана. — И клятвы твои — лживые! Вот, боярин, — разом оставив гнев, со скорбной удручённостью, обратился он к Челяднину. — Вот за кого ты душу хотел положить и вот покаянием перед кем я жаждал свою облегчить! Мнил, соединюсь с ним искренностью сердец наших и отрясу от себя печальную слепоту[190]. Но что получил я? Лживые клятвы!
— Но, буде, и вправду не ведает он? — не поддержал его Челяднин, хотя в душе был почти согласен с ним.
— Не ведает?! — рассмеялся Иван, снисходительно и надменно, как смеются над тупостью или наивностью, и, будто затем лишь, чтоб ещё сильней потешить себя, спросил: — И ты тако ж мнишь, Мстиславый?
Мстиславский знал, что и его не минет внимание Ивана, ибо и он был на подозрении, и в нём Иван мог поискать какую-нибудь недостающую ниточку (если не главную!), без которой не распутывался весь клубок. Поэтому Мстиславский внутренне изготовился к любой неожиданности, к любому самому коварному его выпаду, зная, что ум на ум ему с ним тягаться под силу. И всё же вопрос Ивана застал его врасплох. Душа его, как и прежде, похолодела от страха: что бы там ни измыслил он, всмотревшись в своё и чужое ничтожество, какой бы охранительной силы ни обнаружил, полностью избавиться от страха перед Иваном он не сумел — страх этот оказался сильней любых умозаключений. Но всё равно, это был уже не тот страх, который мог сковать его мысли.
— Будь рассудителен до конца, государь, — ответил он, намереваясь обернуть против Ивана его же собственное оружие. — Ежели ты поверил Даниле, поверь и князю Ивану. Не веришь князю Ивану, усомнись и в Даниловой правде. Данила спасал свой живот, и паче естества[191] мог всех оговорить.
— Кого — всех?
Мстиславский переждал, покуда схлынет горячая волна, накатившаяся на него: из холода его бросило в жар от такой дурацкой оплошности.
— Того я не ведаю, государь.
— А что ведаешь?
Иван помедлил, ожидая ответа, и столько было спокойного торжества в этом его надменном ожидании, и столько уничтожающего хладнокровия, что казалось, не нужен ему был никакой ответ, а ждал он от Мстиславского лишь одного — немедленного покаяния.
— Ты вызвался быть свидетелем его души. Стало быть, ведаешь его душу, ведаешь, что таит он в ней? Вот и расскажи, посвидетельствуй...
— Я хотел быть свидетелем токмо в едином... В том, что князь Иван жаждал притечь к твоим ногам и покаяться. И ты видишь сие...
— Я вижу то, что явлено моим очам. А что сокрыто от них? Что?! Коленопреклонённость — то ли довод истинного покаяния? Не ты ли сам убеждал меня, что коленопреклонение — лише образ? Что так и каются, и так изображают покаяние? И вижу я, что князь Бельский лише изображает покаяние. Не душу свою он принёс мне, а лукавство своё. И ты, заступник его, знаешь сие, бо и сам — говоришь направо, а глядишь налево.