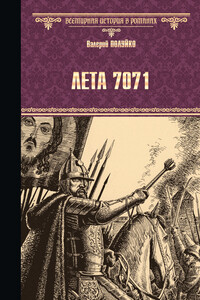— Да где оно, отечество его, государь?! — удивлённо, с тонкой прозвучью лицемерного осуда, который — как знать! — мог смягчить суд над ним самим, воскликнул Бельский.
— Здесь его отечество, на Руси! — сжал Иван кулаки. — Здесь — корень его! Он Рюрикович! Ветвь его Мстиславова старше даже моей... Потому, буде, и худо ему в отечестве, что старшинства забыта не может.
— Государь?! — Глаза Бельского расширились — точно так же, как и в тот миг, когда Иван склонился над ним, чтоб поднять с колен. Но тогда в них было живое доверчивое просветление, отзывчивость, а теперь — недоумение и ужас. — Ве́ди ты... О ком ты, государь?! Я тебе о, князь Димитрии...
— Вот, государь, вот! — подхватился со своего места Левкий. — Аз уж давно приметил, что ты ему про Фому, а он те про Ерёму. Виляет душой боярин, заминает правду-истину. Они все, все, меж собя свестись[194], изнамерились обвести тебя! — митусился Левкий. — И сей! И сей! И сей! — ширял он обличающим перстом в Бельского, в Мстиславского, в Челяднина.
Бельский, смятенный от своей неожиданной и ещё не вполне ясной догадки, совсем сник от этого яростного наскока Левкия. И вправду, было что-то зловеще-безысходное, залавливающее в неистовом кликушестве черноризца, словно чей-то жестокий дух или жестокая воля, приняв его облик, явились с мстительным наветом.
Помрачнел и Челяднин. Тяжёлая истома ещё пуще обложила его чело. Обличающий перст Левкия, вонзившийся в него, только прибавил ему этой истомы, которая давно уже затекла в его мозг как тяжёлый, густой раствор или расплав, и он почти уже застыл, затвердел, превратившись в сплошной тяжёлый ком. Оставались лишь какие-то мельчайшие поры, где ещё сохранялись мысли, но это были не те мысли, которые могли помочь разобраться в том, что видел и слышал он. Ему, впрочем, и не хотелось сейчас ни в чём разбираться. Он ничего не понимал и не хотел ничего понимать. Было лишь одно смутное и тягостное ощущение, что, подобно пыточному колесу, крутится какое-то зловещее недоразумение и крутит вместе с собой не только их, тех, кто сейчас здесь, в опочивальне, но и тех, которых тут нет, которые ещё ничего не знают, не предчувствуют — безымянных, безликих, покуда крутится это колесо; но как только оно остановится, вместе с ним остановится всё и всё разрешится, всё уразумеется, все обретут свои имена, свои лица, тайное станет явным, неотвратимое, неизбежное объявит свой приговор.
— Погоди, поп! — вскипел Иван. — Ты что же, пёс смердящий, взялся за нос меня водить?!
Застыл, окаменел, стал как изваяние Мстиславский, давно уразумевший, про какого Фому втолковывает Бельскому царь.
Близилась развязка — страшная, непредсказуемая, но вместе со страхом, который холодными пластами оседал в душе Мстиславского после каждого его вдоха, отчего он старался почти не дышать, чтобы не дать этим пластам заполнить себя целиком, — вместе с таким вот страхом (почти ужасом!) в нём пылали и жгли его — тем огнём, что пылает лишь в преисподней, — досада и стыд за свою проруху, за своё верхоглядство и песметливость, за то, что не хватило ума понять, что Ивану ничего не известно и что Данила Адашев, несчастный Данила, невольно развязавший язык Бельскому, свой собственный удержал за зубами.
Что оставалось делать и что можно было сделать, когда не хватало мужества даже вздохнуть полной грудью?
— ...Димитрий Курлятев — изрядный лотр[195], — кипел Иван, — и лепта его во всех ваших происках и бесчинствах немалая! Ему також худо в отечестве! Да и земля предков — не отечество ему! Его отечество — его злобесные убеждения, и враг он мой лютейший! Но не он всему голова, и не пытайся, собака, прикрыться им! Курлятевым вам не откупиться! Ему воздастся за его, вам — за ваше!
Ещё оставался миг, последний, ничтожнейший миг! Ещё цепь, которую потом уже нельзя будет разорвать, не соединилась в единое целое. Оставалось последнее звено и — последний миг...
Как биение собственного сердца, чувствовал Мстиславский иссякающее биение этого мига. Он словно держал в руках эту ничтожнейшую песчинку времени, и она таяла в его ладонях, но не улетучивалась, не исчезала куда-то бесследно, а просачивалась внутрь его сквозь поры тела, как будто затем, чтоб прибавить ему силы и решительности, чтоб побудить к действию. Но что, что можно было сделать в этот последний миг? Разве только вздохнуть полной грудью — как перед гибелью.