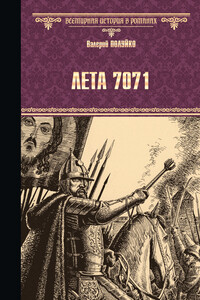Иван подступил к Бельскому, наклонился, ласково взял его за руки, намеряясь поднять с колен. Глаза Бельского расширились от навернувшихся слёз, он покорно и доверчиво поддался Ивану. Жалобная удручённость, надсадность исчезли с его лица; он как будто освободился в этот миг от чего-то или, скорее, переполнился чем-то — искренним, неодолимым, что исподволь зарождалось в нём и вдруг сразу, в одно мгновение, полностью завладело им. Он поверил Ивану.
— Государь, великодушие твоё безмерно! И ежели сердце лежит к тому, прости меня и пощади, токмо... не обеляй. Не обеляй, государь! — Пришедшая вера неудержимо влекла к покаянию — уже бессознательному, которое потянуло из его души и то, чего в иное время не вырвала бы и пытка. — Не достоин я обелы... Ты ве́ди знаешь сие... Ты всё знаешь, государь... Данила Адашев тебе всё рассказал.
— Данила?! — Ивану явно перехватило дыхание. Должно быть, лишь только это, единственное, он как раз и не ожидал услышать от Бельского, и не готов был к этому. Однако замешательства его, которое и проявилось-то лишь в почти неуловимом, невольном вскиде голоса, не заметил никто; пожалуй, только Мстиславский почуял что-то, но когда он осторожно посмотрел на Ивана, то наткнулся на встречный взгляд, и уже не он, а Иван, поймав его глазами, удостоверился, от кого Бельский вызнал про Данилу.
— ...Верно, Данила вельми много поведал мне. — Глаза Ивана опять метнулись к Мстиславскому, и опять их взгляды столкнулись. — Да вот жаль... — Иван вздохнул, потупился, словно прятал что-то в себе, и медленно, в крайней истоме отошёл от Бельского. — По упорству своему нелепотному навлёк на себя Данила железо[185] и дыбу, и не стало его в животе от тех тягостей. И о том ураняется душа моя, бо Данила також был заблудшей овцой. От ветра главы своей повлёкся он вослед тех, кто забыл Бога над собой... Да пусть Даниле! Разумлено о нём: Данила был худороден, приятельство именитых прельщало его... Но тебя укорю: не срамно ли было в единой упряжке с худородным чужой воз тянуть?
— Про Данилу я, государь, лише слыхом слыхал... От князя. А и сам-то дивился, что князь Данилу жалует. Да князю, то ж ведомо, ратное сдружение паче любого высокородства.
— Ратное сдружение?! — Иван попытался засмеяться, но от внутреннего волнения дыхания ему не хватило, и получилось лишь срывистое глухое сипение. — Юродствует князь ваш вельможный! Дабы души таких, как Данила, к себе приворачивать да их руками вред нам чинить. Но тебя-то уж како в свой воз он запряг? Чем прельщал? Что сами государить учнёте, Володимера на престол посадив?
— О Володимере, государь, я и слова от князя не слыхивал, — молитвенно вымолвил Бельский. — Буде, тайно, в душе, князь и держал такое, но со мною он тем не делился. Клянусь тебе, государь!
— Васька, сяду! — вдруг вскрикнул Иван, и так, будто уж валился с ног.
Васька от неожиданности растерялся, и Малюта опередил его, подставив Ивану опрометную скамью[186]. Иван сел, откинулся к спинке — бессильный, изнеможённый. Казалось, не поспей Малюта, промедли ещё чуть, и он вправду не удержался бы на ногах. И лишь очень проницательные глаза, часто и подолгу наблюдавшие за ним, разглядели бы за этой изнеможённостью, за этим кротким бессилием страшную, сжавшуюся в ком силу и ярость — силу и ярость затаившегося перед прыжком хищника. Но таких глаз не было ни у Бельского, ни у Мстиславского, ни у Челяднина; такие глаза были у Левкия, потому-то и возвратилась на лицо святого отца блаженно-наглая ухмыль, которую он уже и не подумывал скрывать.
— Об чём же тогда он с тобой говорил?
— Да ты ведаешь, государь... В Литву он меня сговаривал. И ещё... — Бельский замялся.
— За Литву я тебя уж давно простил. А ещё?
— Ещё... — Бельский тяжело вздохнул, колеблясь и медля с ответом, словно вдруг усомнился, что Ивану известно всё.
— А ещё велел слати на стогны[187] шепотников, — подсказал Иван. — Чернь мутить, крымчаком стращать, чая вновь, как в тот бедственный год, коли Москва погорела, смятение учинить и бунт завести, дабы нашу войну от Литовской земли отворотить.