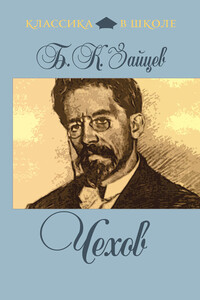V
Эмма ревновала Анну Михайловну ко всему: к знакомым — теперь к Горичу, который иногда заезжал с Фелли–ным, — к театру, актерам, даже искусству, хотя считала гениальной и не допускала в этом сомнений.
Узнав о «Норе», она пришла в бешенство. Ее маленькое, доброе лицо исказилось. Точно вселился в нее кто.
— Подлость! —кричала она, бегая по комнате. — Гадость!
Потом вдруг надела шляпу.
— Куда ты?
— Я скажу Горбатову, что это мерзость, я ему докажу. Я этого так не оставлю!
— Не волнуйся ты, пожалуйста!
Анне Михайловне стоило труда удержать ее. Сама она была слаба, раздражена; азарт Эммы только расстраивал ее.
— Не дали роли, значит Нащокина будет лучше, вот и все. И вообще ты, Эмма, не вмешивайся. Ты пристрастна ко мне.
Эмма обиделась.
— Извини, пожалуйста. Виновата. Могу и совсем устраниться.
Она ушла к себе, заперлась, и из‑за двери донеслись всхлипыванья. Анна Михайловна легла на диван. У ней болела голова, было смутно на сердце и казалось, что Эмма своей нервностью только сильней мучит ее. Но потом стало жаль: она вспомнила преданность, любовь этой девушки, ее сердце отошло. Она постучала. Та отворила не сразу.
— Эмик, не сердись. Я просто дрянь, нервная баба. Прости меня.
Эмма зарыдала еще горше.
— Я знаю, — твердила она, — я тебе не нужна, в тягость. Тебе Горич нравится.
Она зашлась кашлем, долгим, страстным, — и опять расплакалась. Анна Михайловна отхаживала ее. Вечером они помирились.
-— Почему ты думаешь, что мне нравится Горич?
Эмма улыбнулась.
— Мне так кажется, Аничка. Ну, да это что ж? Мне было обидно, что ты меня отстраняешь.
Анна Михайловна покраснела.
— Все это глупости, страшная чепуха. Я тебя вовсе не отстраняю, думала только, что ты очень нагорячишься. И до Горича мне нет дела.
Эмма нагнулась, поцеловала ей руку. Анне Михайловне все же было неприятно это. «Неужели я, как девчонка, веду себя с ним по–особенному? Да и что мне Горич?»
Но на другой день, входя в театр, — она вдруг улыбнулась: если б с ранних лет Горич был ее другом — о, как лучезарнее была бы ее жизнь!
Сладкий туман охватил ее; она перевела дыханье. «Я женщина, как и Эмма, я склонна к преклонению. Могу благоговеть, безгранично отдаться; безраздельно. Но вот этого все не было. Неужели…» Она закрыла глаза, ей показалось, что сейчас она упадет. Проходил Горбатов.
— Репетируем ежедневно, — имейте в виду, глубокоуважаемая: все силы…
Действительно, спектакль близился.
«Что там амуры разводить, я актриса. Работать должна». И, поймав себя на лени, она удваивала старания.
Трудилась, учила, меняла. Работали все. Но по–прежнему пьеса шла туго, без воодушевления.
Администратор Платон, подписывая в конторе счета, говорил:
— Дел не будет.
Горбатов кипятился. То на сцене, то в зрительном зале виднелась его крепкая фигура. Могучий голос кричал:
— Женя, камни! Машенька, дитенок, слов не врать! Свет? Десять белых, для закату красного. С луной вступай мягко!
В день спектакля Анна Михайловна волновалась мало. Ей казалось почему‑то, что, несмотря на промахи, в общем все благополучно; думалось — и сама она владеет ролью. «Волноваться, не волноваться, — все равно уж поздно». Она обедала с аппетитом, выпила вина.
— Аничка, — говорила Эмма, у которой губы побелели, — какая ты сдержанная! Я бы умерла со страху. Публика чужая, первый выход…
— Едем, — Анна Михайловна застегивала перчатку, холодновато, — пора.
И только в театре, когда за занавесом, за стенами ощутила она толпу, — она почувствовала томление. Плотники, наспех ставившие первый акт, Горбатов, Платон, актеры, Эмма казались крошечным отрядом, сжатым врагами. Их пока не видно, но они там; каждая минута прибавляет их, — где друзья?
— С Богом, — обратился Горбатов, холодный и твердый. — Через пять минут.
Мелькнуло лицо автора, в сюртучке, с невидящими глазами; бледная Эмма, Женя. Занавес раздвигался, враги теснились и гудели, рассаживаясь по местам.
Первые десять минут пропали — в шуршании и кашле. Наконец стихло. Все напрягалось. Два тока — со сцены, на сцену — всегда враждебные, сталкивались. То затихали зрители, значит, «доходит», то, неуловимое, начиналось недовольство — безмолвное осуждение толпы. Анна Михайловна ощущала тяжесть. Точно туча осела на плечи, и одной ей, с товарищами, надо выносить. Акт кончился. В зале шумели холодным, нерадостным шумом. Слабые аплодисменты.