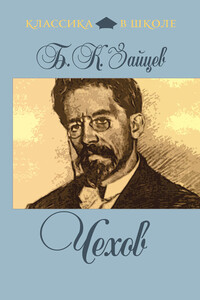Она взглянула ласково, светло.
— А у вас какая идея?
— У меня никакой. Никакой! У меня был пьяненький друг, он говорил: «Все я в жизни понимаю, только не могу сообразить, что к чему». Так и я.
Она рассмеялась:
— Рассказывайте!
Когда ушел и он, Анна Михайловна ходила по комнате одна довольно долго. Ей хотелось с кем‑нибудь говорить — много, весело, хохотать. Или поехать кататься, чтоб лететь так быстро! И чтоб трудно было дышать. Но она была одна — Эмма от волнений и усталости заснула скоро, и в не заделанную еще дверь вышла она на балкон. Здесь, глядя на Неву, плывшую в холодном лунном блеске, на темные дворцы и Исаакия, она улыбалась. Жутко и радостно было ей. «Как велик мир! Как мало его мы знаем! Сколько людей, чувств, сколько неизвестного».
Облака, в суровом беге затемнявшие луну, точно пели ей об этой жизни.
IV
— Женя, — кричал Горбатов, — начинаем! Где там Машенька застряла, дитенок!
Машенька — ingénue[117], легонькая и миловидная, выскочила из кулисы. Пробежала по сцене Женя, с видом курсистки, с сумочкой через плечо. Начался первый акт.
Анна Михайловна не была занята в первых сценах, — она глядела из темного зрительного зала. Было ясно, что выходит плохо. Пьеса неумелая, разошлась неудачно, тяжела актерам. Все скрипело. Лишь Машенька, которая была молода и знала, что талантлива, играла свободно. Чаще всех она подбегала к автору и спрашивала:
— Так я понимаю это место?
«Все это не так, — думала Анна Михайловна, — все это нужно по–другому написать и играть по–другому». Она обернулась и стала глядеть в тьму зала. Доносились голоса актеров, но скоро она задумалась, и вдруг совершенно ясно увидела Горича. Он сидит на диване, с ней рядом, и говорит: «Собственно говоря, актрис я не люблю…» «Ах, какой он чудак! — Анна Михайловна усмехнулась. — Чудак!» И мысленно она перебирала все маленькие сценки за обедом; это было приятно и немного стыдно.
Сзади подошел к ней Горбатов.
— Дорогая, в антракте ко мне, прошу вас. А сейчас вам идти.
Она поежилась и машинально прошла. Потом выходила на сцену, играла, но неясно, точно не очнувшись. Вместо всех слов она повторяла бы радостно два: «Милый друг, — милый друг». В таком настроении вошла она, по окончании, в режиссерскую. Горбатов сидел с видом человека усталого и недовольного.
— Садитесь, дорогая. Прекрасная, талантливейшая артистка. Нам предстоит разговор. — Он вздохнул. — Не из приятных.
И начал издалека, умно, плавно. Пьеса слабая, чтобы не загубить ее совсем, надо массу работать; лишь она, Анна Михайловна, может вывезти. Между тем антрепренер требует «Нору», — она даст кое‑что, значит, надо сразу проходить две роли; конечно, в «Норе» она была бы изумительной; но он обращается с просьбой — принести театру жертву — отказаться от «Норы».
— А? — переспросила она.
Он повторил. Тогда она поняла и вспыхнула.
— Ведь это же решено! Я учу роль!
Горбатов вскочил, схватился за голову.
— Милая, не говорите! Разве можем мы взять у вас роль? Это противно всему, этике, приличию… Но… — он пожал плечами, — мы просим.
Анна Михайловна молчала.
— Хорошо. Я подумаю.
— Хорошая, золотая, ради Создателя на меня не сердитесь! Если б вы знали, как мне тяжело.
Анна Михайловна ушла. Ей было больно. Но она молчала, не сказала даже Эмме. Про себя же обдумывала, как быть. «Настоящая актриса, конечно, даст скорее убить себя, чем откажется. Разумеется, просто антрепренер хочет, чтобы играла Нащокина. Дело не в сборах». Потом она спрашивала себя, имеет ли право, как художник, себя стеснять. Но представилась страстная, жестокая борьба, что и в жизни, и в театре идет вокруг успеха, славы, радости. Вспомнился Феллин. «О, он перегрыз бы Нащокиной горло». Ей стало противно. Она вспомнила свою жизнь, незапятнанную артистическую жизнь, где нет места проискам, конкуренции. И какой‑то демон — сердце, к которому она обращалась в тяжелые минуты, — сказал ей: «Откажись». Она почувствовала себя холодной, внутренне собранной и крепкой. «Пусть я не настоящая актриса, но если меня не желают, я не могу играть. Не могу добиваться, чтобы меня желали».
На другой день она сообщила свое решение.