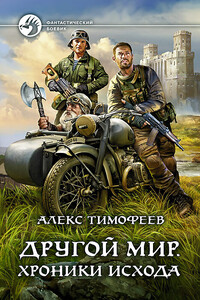— А остальные… — прошептал Дорожкин. — Которые на ниточках. Тоже будущие мертвяки?
— Нет, — замотал головой Тюрин. — Они как на поводке. Ну этого я вовсе не могу объяснить. Ну словно окорочены как-то.
— Окорочены, — попытался вспомнить, где он слышал это слово, Дорожкин.
— Не все окорочены, — пробормотал Тюрин и с предостережением посмотрел на дочь. — Но то не наше дело. Как говорится, смотри, да не засматривайся. Вы-то сами по какому делу сюда?
— Да! — вспомнил Дорожкин. — Девушка пропала весной. Алена Козлова. Она приемщицей работала в прачечной. Да вот, — Дорожкин полез в карман, вытащил маленькую фотографию девушки, которую он вложил в удостоверение, — посмотрите. Ну может быть, подскажете, видели где. А может быть… — Он замялся. — Определите по фотографии, кто она была. Если это возможно. Если вообще возможно, что она кем-то была.
— Это вы в смысле, на метле она летала или в ступе? — развернула очередную конфету Еж. — Мы в прачечную не ходим. У нас стиральная машина есть.
— Не, — вернул фотографию Тюрин. — Не помню такую. Имя слышал, а саму не помню. Да и то, может быть, она недавно в городе? Из Клина приехала? Ну откуда… Я на работу иду, стараюсь зря по сторонам не зыркать, а то еще увидишь что лишнее. Себе дороже встанет.
— Отец Василий хвалил вашу работу, — вспомнил Дорожкин. — Сидит у себя в церкви, слушает Эдит Пиаф. Служит ночами. Говорит что-то о посмертии и об отпущении. Я, правда, не понял, кого он отпускать собирается. Если этих самых… мертвяков, вот вы бы с ним и сошлись. Вы бы различали, а он отпускал.
— Кого он может отпустить? — звякнул чашкой Тюрин. — Отпускают тех, кто сам уйти может, а уж кто перехлестнут поперек, за тех молить не перемолить.
— А вот этот, — нахмурился Дорожкин. — Тот, кто спрашивал об Алене Козловой. Вы же слышали имя? Значит, о ней кто-то спрашивал. Он ведь высокий такой был, говорят, что сильный, красивый и очень страшный. Он вам кем показался?
Закашлялась, побледнела Еж. Замер с поднятой чашкой Тюрин. Медленно, очень медленно поставил ее на стол, расплескивая чай, и прошептал так, словно кто-то мог его услышать:
— Вы, господин инспектор, уходите. И не приходите больше. Я высверливать для вас никого не буду. И различать тоже. Мне еще Ежа надо поднять, да я и сам пока что в полном порядке и никаких перемен к худшему не желаю. Уходите.
— Уходите, — повторил теперь его слова Дорожкин и снова, через день от того разговора, почувствовал, как его обдало чужим страхом. Поднялся, вытер пот со лба, потому как не решился скинуть куртку в столовой, сунул руку в нагрудный карман, чтобы ощупать кобуру (надо было бы что-то придумать с одеждой), с благодарностью кивнул поварихе, подхватил сумку и вышел в ноябрьский холод. На улице было свежо, в воздухе кружились снежинки. «Да, — подумал Дорожкин, — неужели и здесь правоохранителей боятся больше, чем кого бы то ни было»?
Надо было идти на почту. Узнавать адрес Колывановой Марии, которая не так давно отказывала Дорожкину в доступе к Интернету, да и просто так переговорить с тем же Мещерским, мало ли, может быть, она сболтнула что Графику, к примеру, зачем ее понесло в лес? И одна ли она туда ходила? Или все-таки начать следовало с ее дома, с соседей? А почему он, Дорожкин, до сих пор не заглянул в картотеку? Может быть, и на почту не пришлось бы идти?
Мысль была настолько очевидной, что Дорожкин даже остановился уже на пороге почты, но все-таки пересилил себя и шагнул внутрь, успев подумать, будет ли он хвастаться перед Мещерским пистолетом или нет?
Мещерского на месте не оказалось, зато портрет Дорожкина вновь украшал стеклянную перегородку. Дорожкин торопливо протопал вперед, сорвал объявление, скомкал его и только после этого услышал голос.
— Холодно на улице, Евгений Константинович?