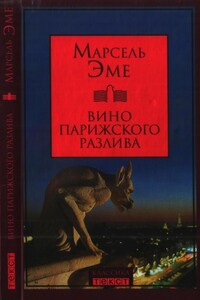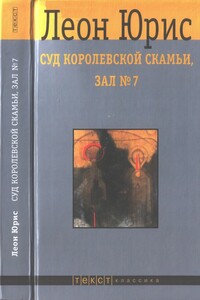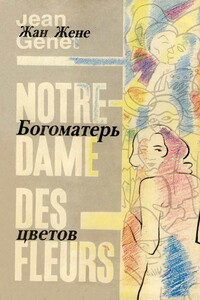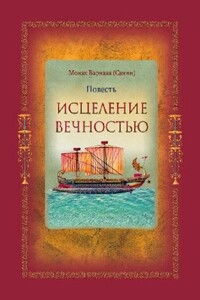Палач не уставал любить, но, если Эрик и привыкал к подобному восхищению, его все же нервировало, что он чувствовал себя слабейшим. И вот после сцены по поводу денег держался и не приходил целых две недели.
«Все кончено. Я больше его не увижу».
Он хотел избавиться от этой липучей зависимости. Ненависть ничего не стоит, но любить значит ненавидеть причину раздражения. Поцеловать палача или дать ему себя поцеловать не было для него чем-то чудовищным, но вот того, что у него вставал хвост и кончал после этих полученных и возвращенных поцелуев, он не мог стерпеть. На следующий же день после решения никогда больше не видеть палача он вышел прогуляться с приятелями. Они без затей походили по улицам и вернулись в казарму. Еще день спустя Эрик вышел один. И так потом десять дней подряд, влача за собой свою скуку; он не имел права ни держать руки в карманах из-за уставных требований, ни свистеть: берлинские бродяги этого не умели. Заговаривать с девицами он не осмеливался. На десятый день, запасшись деньгами с полученного жалованья, он зашел в кабаре. Едва он сел, как местная платная партнерша для танцев направилась к его столику:
— Можно присесть?
Преувеличенно равнодушным тоном он разрешил:
— Да.
Музыка наигрывала героические марши и джазовые мелодии. Уже давно он не бывал в таких заведениях в одиночку, совершенно свободным. Он попивал пивко. Девица попросила стакан ликера.
— Меня зовут Марта.
«Что она думает обо мне? Она даже неплоха, вот только… Только что? Да нет, она недурна. Ей, должно быть, понятно, что я не привык к женскому обществу, но видно ли ей, что я?..»
— А ты молоденький.
— Да? В этом заведении не привыкли к клиентам моего возраста?
— Война.
Эрик окинул взглядом ее белые руки, тяжелую копну волос.
«У нее вид порядочной девушки. Это порядочная шлюха». Он с живостью отодвинул колено, ненароком задевшее под столом ляжку девицы.
— Надо выпить.
Они пили долго, и к нему подкралось опьянение.
— Незачем тут торчать, пойдем отсюда!
— Да нет, детка, оставайся. Давай еще выпьем.
— Тогда ты не сможешь встать со стула. Если подойдут офицеры…
При слове «офицеры» он приподнялся, но почти тотчас плюхнулся обратно. Девица взяла его под руку, и они вышли. На улице она его слегка поддерживала.
— Держись молодцом. Сделай над собой усилие.
Он икнул и прошел метров десять, вытянувшись, походкой автомата.
— Ну, все в порядке? Послушай, мне надо возвращаться, хорошо? Мне надо назад, а тебе — вон туда.
Она показала направление.
— Да… Хорошо, детка…
Он произнес «детка» и одновременно сунул правую руку в карман привычным жестом палача: выставив наружу только большой палец, зацепив его за край кармана. Глубоко вздохнул. Его грудь раздалась вширь, и внезапно он почувствовал, что она наполнилась какой-то новой субстанцией, каким-то очень легким, чистым газом, вроде горного воздуха.
«Да, это то самое. Это чувство».
Он вновь увидел лицо своего дружка, его руки, ноги. Он услышал, как тот произносит: «Эрик!»…
«Я положительно пьян. Я…»
Женщины рядом с ним уже не было. Он шел вдоль берега Шпрее. Держался очень прямо, но глаза были опущены: он прислушивался к тому, что творилось в его душе.
«Любовь… Странная это штука».
Он еще раз вздохнул. Все тот же необычный газ наполнил грудь, и все его тело стало легким, заколебалось, словно приобщаясь некой «идее пошатывания».
«Если я упаду, то куда?»
«В его объятья!» Он даже не сформулировал эту фразу: просто отчетливо увидел себя падающим в объятья, которые палач раскрыл ему, чтобы предотвратить его падение. Когда же поднял глаза, по нечеткости предметов вокруг понял, что плачет.
«Приходится напиться, чтобы понять, что я его люблю. Не надо мне его любить…»
Он обернулся к стене и посмотрел на нее с нежностью. Девицы рядом уже не было.
«Она ушла…»
Ноги стали вялыми. Его внезапно затошнило.
«Сейчас выблюю мою любовь…»
Он прислонился к стене, пригнулся, и его вырвало на тротуар.
«Его не надо любить… Надо ненавидеть… Да, так».
Глаза, вроде бы сперва застывшие, тут закатились и ушли за веки. Снова подкатила тошнота, его вырвало, а затем пришло некоторое успокоение.