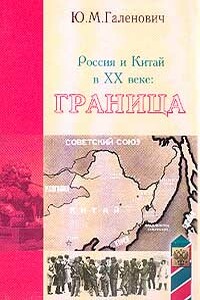Утром ущелье — Свечной переулок,
Ночью — Дарьял, Ронсеваль.
<…>
Битой жене маскарадные гранды
Снятся.
Изящно хотят.
Гуси на Ладогу прут с Гельголанда.
Само название стихотворения подчеркивает авторскую насмешку в адрес петровского проекта создания западной русской империи, «Новой Голландии» на болотах у Балтики. Прогулка Мандельштама происходит именно у ленинградской Новой Голландии — у закрытых складов. Так же, как в «Лебеде», современность представлена переживанием городского ландшафта, стихи Мандельштама — элегическое сожаление о судьбе петровского проекта вестернизации в послевоенном Ленинграде. Это исторические аллегории умершего города: ни старого Парижа, ни петровского Петербурга нет. Оставшиеся напоминания о них — в лучшем случае постройки, свидетельствующие об исторической утрате. Только ночью человек с «богатым воображением» может принять палую листву за монеты, имевшие хождение в Ганзейском союзе. Бодлер говорит о современности на языке мифологии и личных воспоминаний, Мандельштам — обращаясь к истории.
В эссе «Художник современной жизни» Бодлер настаивал на том, что рисовать необходимо по памяти — задним числом воспроизводя увиденное[333]. В «Творчестве и жизни Эжена Делакруа» память художника уже не просто ремесленный навык, но мнемотехника, определяющая работу исторической аллегории[334]. Образ картины или стихотворения, по Бодлеру, должен быть предельно лаконичен и мгновенно действовать на зрителя, провоцируя ассоциации исторической, мифологической и автобиографической памяти. Таковы знаменитые «Свобода» или «Сарданапал» Делакруа, таков и «Лебедь» самого поэта[335].
Поэтический опыт «болтайки» так же, как у Делакруа в интерпретации Бодлера и в «Лебеде», зависит не от темпа ходьбы или быстроты смены видов, но от динамики переживаний — ассоциаций памяти и синестетических ощущений. Как и короткая прогулка от Сены к улочке рядом с Лувром, повлекшая за собой работу исторического воображения, Мандельштам, самое большее, проходит вдоль Новой Голландии по Мойке, которую он принимает за Адмиралтейский или Крюков канал («в изгибе канала», но оба канала в действительности прямые). Возможно, он наблюдает, как крыши пакгаузов покрываются листвой («деревья на крыши позднее золото льют»), с угла Адмиралтейского и Мойки либо Крюкова и Мойки. Кстати говоря, золотая листва — тоже плод бодлерианского воображения «задним числом» (вокруг Новой Голландии растут тополя, их листья желтеют, но золотыми их назвать можно с долей условности).
Между тем у «Новой Голландии» есть другая концовка (видимо, поэта смущала аллитерационная тавтология «сети осенних тенет»), в которой исторический экскурс заменен мифологическим сюжетом, что опять-таки говорит о сходстве с «Лебедем». В этой версии после появления карликов, выковывающих золотую листву, все предстает иначе:
И, листопад принимая
В чаши своих площадей,
Город лежит, как Даная,
В золотоносном дожде.
Миф об оплодотворяющем золотом дожде Зевса гораздо оптимистичнее (ровно наоборот) рисует золотую осень в Ленинграде, восстанавливающемся после блокады. Скорее всего, Мандельштам вдохновился эрмитажной картиной Тициана (на картине Рембрандта дождя нет). Причем тот же мифологический сюжет связан с золотой осенью в другом стихотворении, где есть метафора «листья — монеты»:
Осень. Босая осень
В шкуре немейских львиц,
В перьях их медных сосен
(Стрелы Стимфальских птиц).
Ветер монеты сеет…
Осень. Даная. Миф.
Гривы садов лысеют.
Ржет полуночный лифт
[336].
В этом случае мифологические ассоциации внесли путаницу. Неуязвимая шкура немейских львиц по классической версии мифа — шкура льва, сосны подобны оперенным стрелам, которыми Геракл убил стимфалийских птиц, однако осень кажется слишком суровой и воинственной на фоне оптимистичной истории зачатия Персея. Путаницу снимает столкновение мифа с советской повседневностью в финале стихотворения (такой же конфликт — в концовке процитированного выше стихотворения о Свечном переулке).
Обе версии «Новой Голландии» полноправны, так как Мандельштам, не печатавшийся в официальной периодике, не опубликовал этот текст в окончательной редакции и не сообщил авторскую волю иным путем. Второй оптимистичный вариант отменяет бодлерианский элегизм, но синестетический исторический пейзаж с той же динамичностью, которую Бодлер искал в поэтическом переживании, вдохновившись живописью Делакруа, связывается теперь уже с мифологической аллегорией. Это стихотворение-прогулка не предполагает однозначности, противоречащие друг другу концовки уничтожают возможность высказывания. Но все же очевидно, что ускользание реальности в мифологию внушает оптимизм, тогда как подсматривание за историей в современности приводит Мандельштама к фантазму и иронии.