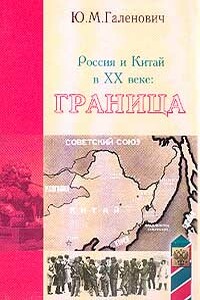Là s’étalait jadis une ménagerie…
[326]Стихотворение посвящено одному из главных литературных оппонентов власти — вынужденному эмигрировать в Англию Гюго. Перестраивающийся Париж напоминает поэту три аллегорические картины: историю Андромахи из Троянского мифа, увиденного как-то в зверинце лебедя, а также «галерею» изгнанников и отщепенцев.
Лебедь, сбежавший из клетки и барахтающийся в пыли у обезвоженного источника, — аллегория судьбы поэта в современности, критикующая знаменитый образ поэтического творчества у Горация (Оды, II, 20) и в то же время, возможно, отсылающая к скульптуре замерзающего во льду лебедя в одном из фонтанов Тюильри, которая впоследствии будет описана в стихах Готье и Малларме. Здесь же упоминается герой «Метаморфоз» Овидия (кн. 1):
…je vis, un matin, à l’heure où sous les cieux
Froids et clairs le travail s’éveille, où la voirie
Pousse un sombre ouragan dans l’air silencieux,
Un cygne qui s’était évadé de sa cage,
Et, de ses pieds palmés frottant le pavé sec,
Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage.
Près d’un ruisseau sans eau la bête ouvrant le bec
Baignait nerveusement ses ailes dans la poudre,
Et disait, le coeur plein de son beau lac natal:
«Eau, quand donc pleuvras-tu? quand tonneras-tu, foudre?»
Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal,
Vers le ciel quelquefois, comme l’homme d’Ovide,
Vers le ciel ironique et cruellement bleu,
Sur son cou convulsif tendant sa tête avide,
Comme s’il adressait des reproches à Dieu!
[327]Второе, что вспоминает поэт при виде перестраивающегося Парижа, — окраины, изгнанников, терпящих лишения, скитальцев и одиночек разных мастей (в том числе «плавающих и путешествующих» из Исаака Сирианина, о которых будет петь девочка в хоре в стихотворении Блока) — среду своего социального самоопределения.
Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous,
Comme les exilés, ridicule et sublime,
Et rongé d’un désir sans trêve! <…>
…Je pense aux matelots oubliés dans une île,
Aux captifs, aux vaincus!
[328]Третья аллегория, с которой начинается стихотворение, — история Андромахи из Троянского мифа (Вергилий, «Энеида», ч. з), разъясняющая политический подтекст стиха:
Andromaque, des bras d’un grand époux tombée,
Vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus,
Auprès d’un tombeau vide en extase courbée;
Veuve d’Hector, hélas! et femme d’Hélénus!
[329]Париж 1848-го пал, как Троя. Проигравшие подобны вдове защитника города, ставшей поочередно женой двух победителей (у Расина только женой Пирра). Сена подобна Симоэнту — реке в Троаде, именем которой плененная Андромаха называла реку в стране врагов.
Мандельштам видит в городском пейзаже историю, но не обсуждает социальную роль поэта. Аллегорическое воспоминание, возникающее у него на прогулке, тем не менее сопоставимо с бодлеровским. Память заявлена среди синестетических соответствий в первой же строфе. Именно на памяти строится подобное поэтическое пространство в интерпретации Жана Старобински, разбирающего фигуры меланхолии в «Лебеде» и других стихах Бодлера[330]. Золотая осень у Новой Голландии неожиданно ассоциируется с историей свободных городов Ганзейского союза, в который теоретически мог бы войти петровский проект «Новой Голландии» — новой балтийской столицы, названной первоначально на голландский манер Санкт-Питербурх:
Карлики листья куют…
Карлы куют.
До рассвета
В сети осенних тенет
Мы находили букеты
Темных ганзейских монет.
Карлики придают этой картине галлюцинаторный эффект. «Арефьевцы» употребляли возбуждающие воображение наркотики
и алкоголь — выше уже говорилось о чайнике-«болтайке». Интерес Мандельштама к «Искусственному раю» Бодлера или «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум» де Куинси был сопряжен с лечением от костного туберкулеза регулярными дозами морфия (помогал и неразведенный спирт). Фантазм в тексте «Новой Голландии» обыгрывается в стиле экспрессионистского пейзажа, причем золотая осень также связывается с галлюцинаторикой в стихотворении «Пассакалья»: «желтые листья галлюцинаций»[331]. Помимо галлюцинаторики как стилизации осеннего пейзажа, фантазм работал на историческое воображение. Похожее преображение ночного Ленинграда в места, известные из европейской истории, находим в стихотворении, повторно иронизирующем над «западностью» Ленинграда (20 апреля 1956 года):