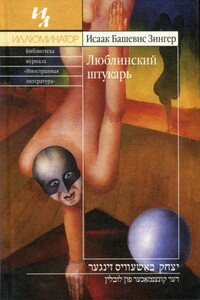Он вздрогнул и сел в постели. Что с ним происходит? Почему он тратит столько времени на пустые фантазии? Ведь в Варшаву он приехал учиться, а не предаваться любовным мечтаниям. Ах, как он завидовал древним философам, стоикам, не поддававшимся страданиям, или же эпикурейцам, которые, даже когда дом их был охвачен пламенем пожара, ели свой хлеб и пили свое вино! Ему подобных высот не достичь никогда! Эмоции овладели им, мучили его, справиться с ними он был не в силах. Думать он мог лишь об Адасе, о ее комнате, ее книгах, ее отце и матери, даже о Шифре, ее служанке. Знать бы только, думает ли она о нем! Или она про него забыла? Он попробует позвонить ей по телефону — а может, напишет письмо. Он встал с постели, включил свет и сел писать Адасе письмо. Написал несколько строк и отложил перо. Какой в этом смысл? Он ни о чем никого не станет просить — лучше умереть. Когда Аса-Гешл наконец заснул, за окном уже брезжил рассвет. Встал он поздно, болела голова. Он оделся и вышел купить на завтрак хлеба и сыра, после чего сразу же вернулся к себе. Полистал учебник географии, русскую грамматику, историю мира. На глаза попалась фраза про Карла Великого, основателя Священной Римской империи. Автор учебника называл Карла великим человеком, защитником Церкви, реформатором. Аса-Гешл покачал головой.
«Чем более жесток тиран, — сказал он себе, — тем больше его славят. Человечество любит убийц».
Он попробовал отвлечься и стал читать дальше. Но мысли одолевали его. Что ж это за мир, где постоянные убийства, грабежи, преследования — в порядке вещей и где в то же самое время воздух сотрясается от пышных фраз о справедливости, свободе, любви? А что делает он? Штудирует элементарные школьные учебники в надежде, что когда-нибудь — быть может, лет через десять — ему удастся получить диплом. Так вот во что выродились его юношеские мечты? Кто же он тогда? Пустое, бессмысленное существо с пустыми, бессмысленными идеями?
Он встал и подошел к окну. Вынул из жилетного кармана часы в никелевом корпусе; была половина четвертого, но уже сгущались ранние зимние сумерки. Во дворе, куда выходило его окно, стояла полная тишина. Из треугольника неба, открывавшегося его взору из-за обступивших крыш, сыпал мелкий снег. На крыше напротив взгромоздилась на флюгер ворона; на фоне бледного неба она казалась голубоватой; впечатление было такое, будто ворона вперилась в бескрайние просторы потустороннего мира. По самому краю крыши, вдоль водосточной трубы осторожно кралась кошка. Внизу, во дворе, над баком с мусором склонилась, копаясь в отбросах, нищенка с мешком за плечами. Вытащила крюком какое-то тряпье и сунула его себе в мешок. Подняла изможденное, морщинистое лицо и, глядя на окна, тоненьким голоском пропела: «Кости покупаю. Лохмотья и кости. Кости, кости».
Аса-Гешл прижался лбом к оконному стеклу. Когда-то ведь и она тоже была молодой, подумал он, да и бык, чьи кости она собирает, был когда-то теленком, скачущим по зеленому лужку. Время все превращает в отбросы. И никакой философии это не изменить.
Он растянулся на кровати и закрыл глаза. И Адаса состарится тоже. Состарится и умрет, и труп ее пронесут по Генсье на кладбище. А если бы времени не существовало, она была бы трупом уже сейчас. Какой тогда смысл в любви? К чему ее домогаться? Зачем печалиться оттого, что она невеста Фишла? Безразличие йога — вот чего так ему не хватает. Войти в нирвану еще при жизни.
Он задремал. Разбудил его пронзительный звонок в дверь. Через мгновение звонок повторился. Вновь наступила тишина, а затем раздался стук — на этот раз в дверь его комнаты. Аса-Гешл встал с постели. Должно быть, он погрузился в глубокий сон. Руки и ноги у него так затекли, что он их не чувствовал. Потолок, мерещилось ему, уходил в небо, стены расступились. За стеклянной дверью проступали чьи-то силуэты. Он знал, что должен что-то сказать, но не мог подыскать нужных слов. Наконец он выкрикнул:
— Я здесь!
Дверь открылась, и в дверном проеме возникла голова Гины.
— К вам какая-то молодая особа, — сказала она. — Она может зайти?