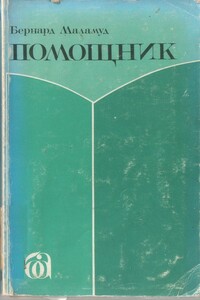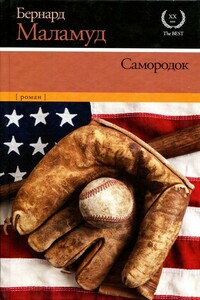— Вы сказали, — Левитанский снова посмотрел на меня в зеркало, — что хотите написать о своей поездке. Ваши статьи будут о политике или нет?
— Я задумал написать ряд статей о московских музеях для американского туристического журнала. Я специализируюсь на темах такого рода. Я, что называется, свободный журналист, — и я виновато засмеялся. Странно, как смещаются акценты в чужой стране.
Левитанский вежливо посмеялся вместе со мной, но вдруг оборвал смех.
— Я хотел бы знать точно, что значит «свободный журналист»?
Я объяснил.
— Сверх того я понемногу редактирую. Недавно издал поэтическую антологию и антологию эссе, обе для старшеклассников.
— И у нас есть свободные журналисты. Я тоже писатель, — торжественно объявил Левитанский.
— Вот как? Вы хотите сказать, литературный переводчик?
— Переводчик — моя профессия, но я и сам пишу.
— В таком случае вы зарабатываете тремя способами: пишете, переводите и работаете на такси?
— Вообще-то я не работаю на такси.
— А что вы сейчас переводите?
Шофер прокашлялся.
— Сейчас я ничего не перевожу.
— А что вы пишете?
— Рассказы.
— Вот как? В каком роде, если позволено будет спросить?
— Небольшие, короткие рассказы из жизни, в таком вот роде.
— Вы что-нибудь опубликовали?
Он, как мне показалось, хотел обернуться — посмотреть мне в глаза, но вместо этого полез в карман рубашки. Я протянул ему мои американские сигареты. Он вытряхнул сигарету из пачки, закурил, медленно выдыхал дым.
— Кое-что опубликовал, но уже давно. По правде говоря, — он вздохнул, — сейчас я пишу в стол. Вам знакомо это выражение? Вам известно, что Исаак Бабель называл себя мастером в жанре молчания?
— Довелось слышать, — я не знал, что еще сказать.
— Мыши — вот кто мог бы читать и критиковать мои рассказы, те, что они не успели съесть и обсыпать катышками… — горестно сказал Левитанский. — И это — лучшая критика.
— Мне очень жаль.
— А вот и Чеховский музей.
Я наклонился к нему, чтобы расплатиться, и опрометчиво добавил рубль на чай. Он вспыхнул.
— Я — советский гражданин. — Он всунул рубль обратно мне в руку.
— Считайте, что это оплошность, — извинился я. — Я не хотел вас обидеть.
— Хиросима, Нагасаки, — глумливо выкрикнул он, и «Волга» унеслась, изрыгая клубы дыма. — Агрессор, напал на несчастный народ Вьетнама.
— Я-то тут при чем, — крикнул я ему вслед.
* * *
Полтора часа спустя, когда, расписавшись в книге посетителей, я вышел из музея, в глаза мне бросился человек, куривший под липой по другую сторону улицы. Рядом было припарковано такси. Мы уставились друг на друга, поначалу я не узнал Левитанского, но он, дружелюбно кивнув мне, закричал: «Привет! Привет!» Махал рукой, широко улыбался. Густую шевелюру он пригладил, облачился в просторный темный пиджак, рубашку без галстука и мешковатые брюки. Сквозь ремешки сандалий просвечивали носки в красно-бело-синюю полоску.
Он меня простил, подумал я.
— И я вас приветствую, — сказал я, пересекая улицу.
— Как вам понравился Чеховский музей?
— Очень понравился. Записал много интересного. Знаете, что я там увидел? Черную шляпу и пенсне — те, в которых его так часто фотографировали. Это так трогает.
Левитанский вытер слезу, чем меня весьма удивил. Казалось, передо мной другой человек — так он переменился. Странное дело: незнакомый человек рассказывает что-то о себе, и уже в ходе разговора ты смотришь на него другими глазами. Таксист становится писателем, пусть даже не профессиональным. Во всяком случае, теперь он для меня был в первую очередь писатель.
— Я был груб, извините, — сказал Левитанский. — Для меня сейчас не самое прекрасное время — «Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время»[28].
— Если вы простили мой невольный промах… Не могли бы вы отвезти меня к «Метрополю» или вы оказались здесь случайно?
Я оглянулся, посмотрел — не вышел ли кто вслед за мной из музея.
— Если вы наймете меня, я отвезу вас, но сначала хочу показать вам кое-что интересное.
Он сунул руку в окно такси и вытащил оттуда плоский пакет в оберточной бумаге, обвязанной красной бечевкой.
— Мои рассказы.
— Я не читаю по-русски, — сказал я.