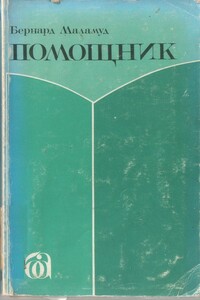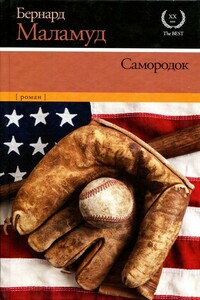У меня сложилось впечатление, что она слушает во все уши, но через некоторое время трубка замолчала. Я гадал, как она могла узнать мое имя, а так же не устроили ли мне проверку на предмет — не притворяюсь ли я, что не говорю по-русски. Но я не притворялся, вот уж нет.
После чего я написал письмо Лиллиан, сообщил, что завтра в четыре часа дня вылетаю «Аэрофлотом» в Москву, намереваюсь пробыть там две недели, с перерывом на два-три дня для поездки в Ленинград, где остановлюсь в гостинице «Астория». Указал точные даты отъездов-приездов и послал письмо авиапочтой, опустив его в почтовый ящик подальше от гостиницы, хотя, Б-г знает, что это могло дать. Я надеялся, что успею получить ответ от Лиллиан до отъезда из Советского Союза. По правде говоря, весь день мне было не по себе.
Однако к следующему утру настроение мое переменилось и, когда я стоял у ограды парка над Днепром, глядя на дома, вырастающие за рекой там, где некогда была степь, у меня, как ни странно, свалилась тяжесть с души. Колоссальное строительство — казалось, перед моими глазами из земли встают два, а то и три разбросанных неподалеку друг от друга городка — меня потрясло. И такое строительство идет по всей России, чуть не в половине мира, а когда я прикинул, сколько в это вложено труда, материальных затрат, силы духа, я, не сходя с места, поверил, что Советский Союз не рвется развязать войну с США, ни ядерную, ни какую-либо другую. Но и Америка — в здравом уме — никогда не пойдет на войну с Советским Союзом.
В первый раз после приезда в Россию я почувствовал, что мне ничего не грозит, и у продуваемой ветром ограды парка над Днепром пережил несколько — столь редких — минут восторга.
* * *
Почему самые интересные в архитектурном отношении здания были построены при царизме? — задался я вопросом, и, если мне не померещилось, Левитанский вздрогнул, впрочем, по всей вероятности, это было простое совпадение. Вот только не задал ли я этот вопрос вслух — со мной такое иногда случается; но я решил, что нет, быть такого не могло. Мы ехали в музей со скоростью восемьдесят километров в час, машин было мало.
— Что вы думаете о моей стране, о Советском Союзе? — спросил шофер, обернувшись ко мне.
— Я был бы благодарен, если бы вы смотрели на дорогу.
— Не беспокойтесь, я давно вожу машину.
После чего я сказал, что многое из виденного произвело на меня впечатление. Великая страна, что и говорить.
В зеркале я увидел, как на круглом лице Левитанского изобразилась приятная улыбка, обнажившая щербатые зубы. Улыбался он, похоже, одними губами. Теперь, когда он открыл свое полуеврейское происхождение, я бы сказал, что он больше похож на еврея, чем на славянина, и в еще большем раздоре с жизнью, чем казалось раньше. Причиной тому были его неспокойные глаза.
— А наш строй — коммунизм?
Я с оглядкой — не хотел задеть его — ответил:
— Буду с вами откровенен. Я видел много необычного, даже вдохновляющего, но я сторонник более полной свободы личности, а здесь она, по моим наблюдениям, слишком ограничена. Видит Б-г, Америка тоже не без недостатков, и серьезных, однако у нас, по крайней мере, критика не под запретом, если вы понимаете, о чем я. Мой отец часто повторял: «Билль о правах[27] не оспоришь». У нас открытое общество, и это обеспечивает свободу выбора, по крайней мере, в теории.
— Коммунизм, как политическая система, лучше во всех отношениях, — Левитанский явно не кривил душой, — хотя на нынешней стадии он осуществлен далеко не полностью. В настоящее время… — он сглотнул, задумался и не закончил фразу. А вместо этого сказал: — Наша революция — великое и святое дело. Мне нравятся ранние годы советской истории, увлечение идеалистическим коммунизмом, великая победа над буржуазией и империалистическими силами. В одну ночь все угнетенные массы поднялись. Пастернак назвал революцию «великолепной хирургией». Евгений Замятин — может быть, вы читали его книги — говорил, что революционный огонь пожирает землю, но в этом огне родится новая жизнь. Многие наши поэты так считали.
Я не спорил — каждому свое, и революция тоже своя.