Пушкин — либертен и пророк. Опыт реконструкции публичной биографии - страница 36
Конечно, в лицейские годы разделение «ума» и «сердца», характерное для стихотворения «Безверие», не обязательно было связано с философской системой Гельвеция, однако в апреле 1821 года отдающее парадоксом высказывание Пестеля «Сердцем я материалист, но мой разум этому противится», весьма вероятно, было воспринято Пушкиным в рамках философской системы Гельвеция через призму трактата Радищева «О человеке».
В послании Давыдову пародийно присутствует разделение рационального и чувственного восприятий. При этом роль «сердца» играет «ненабожный желудок» автора.
Послание характерно еще и выражением того оптимизма в возможности сочетания личного счастья («Мы счастьем насладимся») с общим благом, который отличал французского философа и который скоро перестанет быть характерным для Пушкина.
Гельвеций определял ум так:
результат способности мыслить (и в этом смысле ум есть лишь совокупность мыслей человека), или ‹…› как самая способность мыслить[220].
Это определение не слишком специфично само по себе, если не принимать во внимание того, что особенностью философской системы Гельвеция является феноменологическое отождествление «суждения» с «ощущением»:
Но, скажут мне, каким образом до сих пор предполагалась в нас способность суждения, отличная от способности ощущения? Это предположение, отвечу я, основывалось на воображаемой невозможности объяснить иным путем некоторые заблуждения ума ‹…› нет такого ложного суждения, которое не было бы следствием или наших страстей или нашего невежества[221].
Таким образом, ум «во всем смысле», или, по определению Гельвеция, «правильный ум», — это ум, свободный от «всех страстей, которые искажают нашу способность к суждению»[222]. По мысли Гельвеция, людей, в полной степени обладающих «правильным умом», почти нет, потому что для этого «нужно было бы всегда иметь в памяти идеи, знание которых давало бы нам знание всех человеческих истин, а для этого нужно было бы знать все»[223]. И, возможно, потому, что Пестель поразил Пушкина всеобъемлющим характером своих знаний («мы имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч.»), поэт определил ум декабриста не только как полный «во всем смысле», но и как «один из самых оригинальных».
Природа ума, которым стал умен Пушкин, сказав о себе «Я стал умен, я лицемерю», очевидно, другая. После слова «лицемерю» Пушкин поставил тире, что в пушкинской оригинальной пунктуации часто функционально соответствует современному двоеточию, если не запятой. Следовательно, пост, молитва и твердая вера в милость Всевышнего и государя, по мысли Пушкина, и являются выражением лицемерия и «ума» одновременно. По классификации Гельвеция различных типов ума, умом, сочетающимся с лицемерием, считается «практический ум», одна из особенностей которого «есть умение пользоваться тщеславием ближнего для достижения своих целей»[224].
«Практичное» поведение автора входит в противоречие с ощущениями просветительского дуэта из «гордого рассудка» и «ненабожного желудка». Они отказываются следовать лицемерной набожности автора. Чудо евхаристии представляется невозможным, потому что плохое вино («с водой молдавское вино») никак не может претвориться в «кровь Христову».
Гельвеций, безусловно, один из самых антиклерикальных авторов Старого Режима, но степень его атеизма не следует преувеличивать (о чем ниже), как и степень влияния на идеологические представления Великой французской революции эпохи Террора. Не случайно с резким осуждением памяти Гельвеция 5 декабря 1792 года выступил Робеспьер:
Лишь двое, на мой взгляд, достойны нашего признания — Брут и Ж. — Ж. Руссо. Мирабо должен пасть. Гельвеций также должен пасть. Гельвеций был интриганом, презренным остроумцем, человеком безнравственным. Он был одним из самых жестоких гонителей славного Ж. — Ж. Руссо, того, кто более всех достоин наших почестей. Если бы Гельвеций жил в наши дни, не думайте, что он бы примкнул к тем, кто защищает свободу. Он пополнил бы собой толпу интриганов-остроумцев, от которых страдает ныне наше отечество[225].
Пестель вполне мог бы подписаться под этими словами.




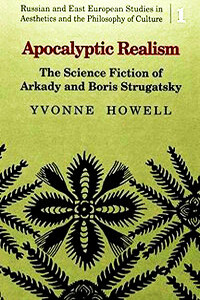
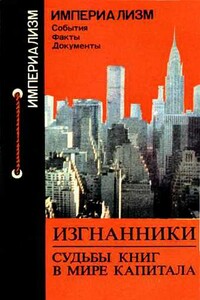
![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)