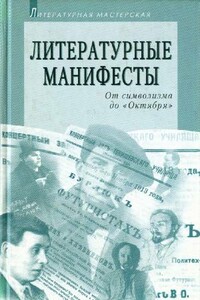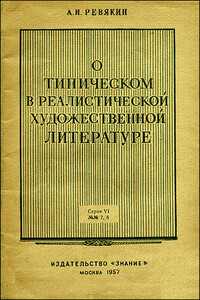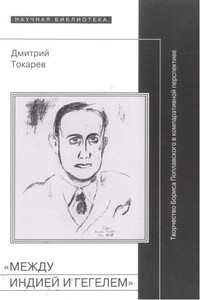Почему это произошло именно тогда, в 1829 году, а не раньше? Возможно, Пушкин опубликовал свои «Воспоминания» о Карамзине в тот момент, когда в его собственный адрес стали звучать упреки читающей публики в сервилизме[594], так же (если не более) горько и часто, как они звучали в адрес Карамзина. Так, подчеркнуто автобиографически звучит следующий пассаж из воспоминаний о Карамзине:
Многие забывали, что Карамзин печатал свою Историю в России, в государстве самодержавном; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Повторяю, что История Государства Российского есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека. (Извлечено из неизданных записок.) (XI, 57).
В 1829 году, когда эти строки были опубликованы, все приведенное выше можно было отнести не только к Карамзину, но и к самому Пушкину. Ведь незадолго до написания этих строк император освободил от цензуры его самого, после чего он сам стал, к огорчению и разочарованию современников, придерживаться несвойственной ему «скромности и умеренности» в политических оценках. При этом в сознании читателей продолжала укрепляться параллель «Пушкин — Карамзин», возникшая после знаменитой встречи Пушкина и императора, в результате которой Николай принял на себя обязанности цензора, то есть первого читателя всего того, что Пушкин напишет. Современники почувствовали это сходство еще до того, как сам Пушкин стал его педалировать. Показательно, например, что Катенин в стихотворении «Старая быль», направленном против Пушкина, задевал и Карамзина[595]. Соответственно, Пушкин, оправдываясь и представляя себя не льстецом и придворным поэтом, а «Б-м избранным певцом», примеривает к себе роль, которую играл при императоре Александре Карамзин. Стихотворение «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю / Хвалу свободную слагаю») в обществе распространялось одновременно с публикацией «Отрывков из писем, мыслей и замечаний», содержавших цитированные выше воспоминания о Карамзине. Отметим, что эпиграф к этому стихотворению Пушкина отсылает к строке из 138 псалма: «Еще нет слова на языке моем» — в том виде, который придал этой строке Карамзин, поставив ее эпиграфом к «Записке о древней и новой России»: «Несть лести в языце моем» (церковнославянский вариант: «Яко несть льсти в языце моем: се, Господи, Ты познал еси» (Псал. 138).
Притом что Пушкин, скорее всего, не был знаком с текстом «Записки», отмеченное пересечение может свидетельствовать о том, что какое-то общее представление о критическом характере этого документа, адресованного императору Александру, у него было. Конечно, соотнесенность пушкинского стихотворения с карамзинским эпиграфом могла быть открыта только самому тесному кругу их общих друзей. Это, прежде всего, Жуковский и Вяземский.
Несомненно, что главной причиной переоценки Карамзина был неожиданный личный опыт Пушкина, когда он в одночасье из ссыльного поэта стал собеседником императора и, как казалось Пушкину, поэтом у трона, то есть пророком. Поэтому журнальная публикация пушкинского стихотворения «Пророк» датирована 8 сентября. Именно в этот день, как хорошо было известно современникам, состоялась встреча Пушкина с императором Николаем. И хотя власть тогда только присматривалась к поэту и примерялась к тому, как использовать его талант, Пушкину казалось, что его роль как пророка уже определилась и что в своих взаимоотношениях с новым императором он может стать тем, кем был по отношению к императору Александру Карамзин.
В 1831 году, став государственным историографом, то есть официально получив должность, которую до него занимал Карамзин, Пушкин, казалось бы, окончательно утвердился в его роли. Это впечатление было оправдано важностью порученного ему императором труда — написать историю Петра, а также тем, что Пушкину, как до него Карамзину, были открыты все архивы. В этом же году, чтобы закрепить союз между императором и поэтом, был разрешен без переделок «Борис Годунов», вышедший в свет с посвящением «незабвенной для Россиян памяти Карамзина».