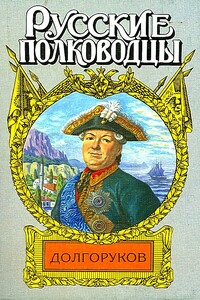— Никаких условий! — резко вскричал Панин, глядя воспалёнными глазами на графа. — Что ещё за условия?! Крепость наша!.. Поэтому никаких условий — только дискреция!
Мусин-Пушкин развернул коня, ускакал к Бендерам.
Спустя час он прислал офицера с долгожданной вестью — турки безоговорочно капитулировали.
Панин долго, каким-то отрешённым, невидящим взглядом смотрел на крепость, потом медленно перекрестил грудь и, чуть повернув голову к генералам, произнёс дряблым голосом:
— Пойдём завтракать, господа... Есть что-то хочется...
Выдержавшие двухмесячную осаду и павшие в одну ночь Бендеры весь день курились зыбкими дымами пожарищ. Торопливые порывы ветра приносили в русский лагерь едкий запах гари, напоминая оставшимся в живых воинам о кошмарно длинных часах штурма.
В лагере было тихо... Измученные ночным сражением солдаты крепко спали, повалившись на траву, подставив пригревающему солнышку закопчённые лица. Дежурные, составив ружья в пирамиды, вяло переговаривались, скучно жевали нехитрую солдатскую снедь. Напряжённое, тревожное оживление, охватившее людей перед штурмом, недолгое ликование после боя сменилось вязким, гнетущим безмолвием. Даже Днестр, казалось, остановил своё могучее течение, чтобы не нарушать царившего покоя.
Только из лазаретов, где лекари и подлекари ковырялись крючками в ранах, выуживая пули и осколки, по-мясницки орудовали ножами и пилами, отсекая искалеченные руки и ноги, доносились надрывные крики и стоны раненых.
Выделенные в похоронные команды солдаты молча, как привидения, бродили у стен, собирая убитых; крестясь, брали залитые подсохшей кровью тела, выносили к повозкам и, раскачав, грузили навалом.
Убитых хоронили до самого вечера.
Только глядя на могилы, увенчанные белыми свежесрубленными крестами, на лежащих по всему лагерю раненых, Панин понял, какой дорогой ценой заплатил он за крепость. Генерал-квартирмейстер Михаил Каховский, надломленным голосом доложивший цифру потерь — 2593 убитых и раненых, — видел, как передёрнулось болезненной гримасой лицо командующего.
— А турки?
— До пяти тысяч, ваше сиятельство... Нами взяты також двести шестьдесят две пушки и восемьдесят пять мортир. Пленено более пяти тысяч турок... Пленены бендерский сераскир Эмин-паша и комендант крепости Абдул-эфенди.
— Ну, это недурно, — чуть оживился Панин. И поспешил отправить Екатерине победную реляцию.
Он диктовал её так мудрёно и высокопарно, что писарь, дивясь необычному для командующего слогу, старался не пропустить ни слова, но всё же раза два переспросил, чем вызвал гнев генерала:
— Да ты, болван, никак, оглох?.. В баталии не был, а уши заложило!
— Виноват, ваше сиятельство... Перо менял... Отвлёкся... Перо негодное, — испуганно лепетал писарь.
— Перья-то заранее готовить надо, — глухо рыкнул на него Панин.
Граф не мог не признать яростного сопротивления турок. Но сейчас, описывая викторию, он сознательно стремился усилить трудности и тем самым возвысить важность одержанной им победы.
«L’ours est mort (медведь издох), — говорилось в реляции, — и сколь он бендерскую мерлогу ни крепку, а ногтей почти больше егерей имел, и сколь ни беспримерно свиреп и отчаян был, но Великой Екатерины отправленных на него егерей стремление соблюсти достоинство славы оружия её со врождёнными в них верностью, с усердием к своему государю, храбрость с бодрствованием, нашли способ по лестницам перелезть чрез стены его мерлоги и совершенно сокрушить все его челюсти, вследствие чего непростительно бы я согрешил перед моей государыней, если б этого не сказал, что предведенные мной на сию охоту её егери справедливо достойны высочайшей милости Великой Екатерины, в которую дерзаю совокупно с ними и себя подвергнуть...»
Подписывал реляцию Панин с видом самодовольным и важным. Он был уверен, что падение Бендер принесёт ему не только благодарность России, но и милость государыни — чин генерал-фельдмаршала.
«А почему бы и нет? — думал Пётр Иванович, бросив перо в руки писаря. — Иль я хуже Румянцева?.. Тот в чистом поле турок воевал. Эка невидаль!.. А вот расколоть бендерскую мерлогу, верно, зубы сломал бы... А я смог! И зубы целы!..»