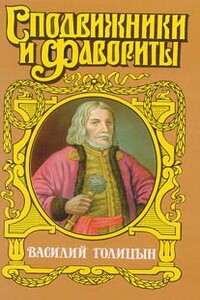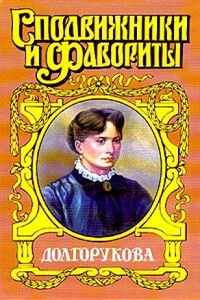— Не зарывайся, Павлыч, — строго произнёс он. — Помни, кому ты своим возвышением обязан, кто тебя из иудина племени вытащил. Со мною не перекоряйся.
И, тяжело поднявшись, направился к своему месту во главе стола.
Пётр Павлович мигом протрезвел. «Господи, занесло, опять занесло! — уныло думал он. — Едина надежда — запамятует государь... За бражным столом говорено было».
Но тут же вспомнил: Пётр был памятлив. И не просто памятлив, а злопамятен... Может, всё-таки пронесёт? Нет, слишком много нажил себе врагов, высокомерностью своею, уверенностью в своей незаменимости, в том, что разумением был выше многих, выше Головкина, Меншикова...
Может, так оно и было, он и в самом деле многих превосходил, и советы его государь принимал редко с поправкою. Но клеймён он навечно происхождением своим, и хоть крещён и истов в новой вере, а всё едино врагам рты не заткнёшь: из жидовского-де племени вышел и многие свойственики его в нём доселе пребывают.
Сколь раз говорил себе: не ставай поперёк сильных мира сего, и жена усовещивала, и дети, и отец. Не кажи ум свой... Вот хитрый да осторожный немчин Андрей Иваныч Остерман хоть и весьма разумен, а не высовывается и посему врагов покамест не нажил. Не суётся всюду со своими советами, коли не спросят. И благо ему. И ещё одна добродетель важная за ним водится — не стяжает. Не просит себе маетностей, имений, дач. Коли вспомнят о нём да пожалуют — другое дело...
Замутилася душа у Петра Павловича. Государь в его сторону не глядит, недолгим было пирование. И как ни упрашивал Шафиров, на колени плюхался, что при его тучности да неуклюжести было нелегко, Пётр с супругою поднялись, а за ними все остальные высокие гости.
— Прощенья прошу, прощенья, — бормотал Пётр Павлович, провожая их, — коли был неловок — виноват. Отмолю вины свои, государь милостивый, заступления Господнего просить буду.
Поймал руку Петра, приник к ней. Государыня была к нему милостива — многажды оказывал он ей услуги, подала руку сама, с добрыми словами отнеслась к хозяйке, благодарила за гостеприимство.
«Всё потому, что тоже низкого происхождения, — мимолётно подумал Пётр Павлович, — и нет в ней спеси боярской да дворянской». Знал: заступится она за него, коли совсем худо станет. И покаянную слезницу решил сочинить и подать государю.
Да, взывать к милосердию, молить о прощении, поминать о рабской преданности, о верной службе, о заслугах. Тем паче что стало известно, что по указу государеву наряжен был Вышний суд на Генеральном дворе и в Грановитой палате. И среди тех судей люди вовсе ему не благоволившие: сенаторы Матвеев, Мусин-Пушкин и Брюс, генералы Дмитриев-Мамонов, Головин и Бутурлин, бригадир Воейков, полковник Блеклый да гвардии капитаны Бредихин и Баскаков[123].
Государь на консилии того Вышнего суда ездил и подолгу слушал препирательства обвинителей и защитников. Обвинителей, впрочем, было больше, а защитителей всего двое: князья Дмитрий Голицын да Григорий Долгоруков.
Ненавистники человеков и достоинств их не перевелись округ государя. И при случае кололи прошлым: ты-де вице-канцлер, из жидовского племени вышел, а сказано было: всяк сверчок знай свой шесток. Тож — о Мануиле Девьере, обер-полицмейстере питербурхском. Но ведь в сподвижниках великого государя было много разноплеменных людей. Тот же Брюс, тот же Ягужинский, Дефорт, Миних, Рагузинский, Остерман — длиннейший бы список вышел. Пётр на то не глядел: коли человек был способен, разумен, умом светел да образован, был ему угоден, ибо таковые люди умножали пользу государства.
Написал покаянное письмо: «Припадая к стопам ног Вашего Императорского Величества, слёзно прошу прощения и помилования в преступлении моём, понеже я признаю, что прогневил Ваше Величество своим дерзновением в том, что по высылке обер-прокурора из Сената не вышел, також что дерзнул я по вопросу приказать приписать Кирееву секретарю в приговор брата своего Михайлы о выдаче ему жалования на третью треть по указу, разумея то, когда о той выдаче указ повелевает, и в том преступлении своём не могу пред Вашим Величеством никакого оправдания принесть, но молю покрыть то моё беззаконие кровом милости своея, понеже клянусь вышним, что учинил то безхитростно. Помилуй мя, сирого и никого помощника, кроме Вашего Величества, не имущего».