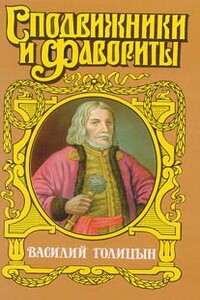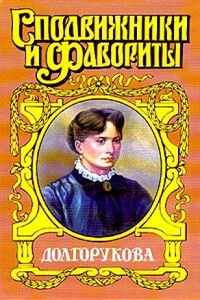Тучи сгустились не только над ним, Шафировым, хотя это было слабое утешение. Император взялся разбирать с обычным своим пристрастием бесчинства, неустройства и безобразия, копившиеся без его глаза и дубинки в пору низового похода. Набралось их без счета. И государь велел чинить суд да расправу по справедливости да и сам был нелицеприятен.
В то же самое время и всесильный Меншиков был обличён. И над ним была занесена Петрова дубинка.
Ревностно обороняла своего бывшего хозяина, аманта, а потом и благодетеля царица Екатерина. Супруг отвечал сурово: «Меншиков в беззаконии зачат, во гресех родила мать его, и в плутовстве скончает живот свой, и ежели он не исправится, то быть ему без головы».
Данилыч, по обычаю, каялся: «...ныне по делу о почепском межевании по взятьи инструкции признаваю свою пред Вашим Величеством вину и ни в чём по тому делу оправдания принесть не могу, но во всем у Вашего Величества всенижайше слёзно прошу милостивого прощения и отеческого разсуждения, понеже, кроме Бога и Вашего Величества превысокой ко мне милости, иного никакого надеяния не имею и отдаюсь всем в волю и милосердие Вашего Величества».
Ежели бы Пётр Павлович про те государевы обличения светлейшего проныры ведал да его челобитье чел, то, наверно, подивился бы немалому совпадению их покаяний. Но он ничего этого не знал, и, весь сжавшись, ожидал решения Вышнего суда.
Ведал он только про слабость государя к Данилычу, про великое уменье князя разжалобить своего высокого покровителя. То была слабость непонятная, необъяснимая, ибо проницательным людям было доподлинно известно, что светлейший князь Римского и Российского государств и герцог Ижорский, рейхс-маршал и генерал-фельдмаршал, действительный тайный советник, генерал-губернатор Санкт-Питербурхский, от флота Всероссийского адмирал, подполковник Преображенской лейб-гвардии и полковник над тремя полками, многих орденов кавалер, российских и иностранных; был безграмотен, умея лишь выводить свою фамилию при подписании бумаг, равно и никаких особых достоинств, кроме великого пронырства и хапужества, равно и интрижества, за ним не водилось.
Но слабости свойственны не только простым смертным, но и людям великим, коих отметил Бог своею волею и своим перстом. Вот и у Петра, всё проницавшего, непримиримого к стяжателям, хапугам, лихоимцам, не знавшего жалости к тем своим фаворитам, кои были обличены в грехах против государства, были свои слабости. И едва ли не главною оставался Алексашка Меншиков.
Заседания Вышнего суда продолжались своим чередом, без торопливости: Пётр повелел основательно исследовать все обстоятельства и вины тяжущихся сторон. Сам же он погрузился в главную свою докуку: Персидский поход.
Трачено было много, потеряно было тож много. А достиг ли он того, к чему стремился: встала ли Россия двумя ногами на берегу Каспия, прочно ли утвердилась в том же Дербенте да и в крепости Святого Креста? Крепка ли стала та крепость?
Он ждал возвращения Апраксина и Толстого, оставленных для призора и одушевления команд. Толстому было велено задержаться в Астрахани, но он возвратился против указу, сославшись на многие недуги, одолевавшие его по старости. И в самом деле, немолод был: семьдесят седьмой год шёл графу и действительному тайному советнику, был он старей всех в окружении Петра.
— Докладай, Фёдор Матвеич, по военной части.
— Ох, государь, мало чем радовать. Скажу тебе открыто: зело трудно тамо держаться среди скрозь враждебного народу, — сокрушённо молвил Апраксин. — Дауд-бек да Усмей приступили к Дербеню. Попервости были отбиты и сняли осаду. А ноне не ведаю, каково там. Гарнизон ослаблен, но вот полковник Юнгер в доношении своём на твоё, государь, имя да в журнале боевых действий обязуется удержать город...
— Теперича я скажу, государь, — вступил Толстой. — Дербень горцам не взять: нету у них такого навыка — крепости брать. Нам, первое дело, надобно самым скорым манером заключить трактат мирный с персиянами, дабы признали они за нами области, где наши войски уже утвердились...
— Не токмо те, — поправил его Пётр, — но и Баку и далее.