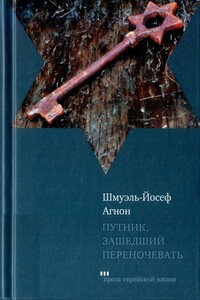Между собой они дрались
редко. Знали, что обречены на ничью. Хотя и здесь Степан иногда подличал. Уже
помирятся, страсти улягутся, а он извернется — стукнет Семена и отскочит, лишь
бы последний удар за ним остался. Этакая символическая победа. А Семен махнет
на это рукой, отчего Степану только обиднее — нахохлится и уйдет на улицу,
хлопнув дверьми.
Порой Татьяна Васильевна
меж ними разрывалась, но старалась больше времени и ласки уделять Степану,
пыталась помогать, учила с ним уроки, но тот принимал ее любовь за жалость к
слабому и еще больше злился. Исходя из каких-то собственных, а то и дворовых
соображений, он зачастую называл Семена «маменькиным сыночком». И все же до
поры до времени в трудную минуту они были вместе.
5
— Мужчина, Ваша очередь
на исповедь.
Семен встрепенулся. За
плечо его слегка тронула стоявшая за ним девушка. Он даже не заметил, как
очередь подвела его к амвону. Затуманенным взором посмотрел на девушку и
сбивчиво то ли поблагодарил, то ли извинился:
— Ах да... Спасибо...
Извините... Забылся... — шагнул на амвон. — Простите, батюшка, я не готов еще.
Мог ли бы я прийти в другое время? Мне нужно многое рассказать...
Отец Николай пытливо
посмотрел на мирянина. А Семен хотел прочитать в глазах отца Николая так нужное
ему понимание. Священник был одного с ним возраста, может, лишь чуточку
постарше. Пожалуй, каждый верующий в городе знал этого иерея, да и с ближних и
дальних деревень съезжались к нему за советом и благословлением. Самая длинная
очередь на исповедь всегда была к нему. И Семен встал именно в эту очередь.
Говорили, что у отца
Николая есть дар прозорливости, но внешне это никак не выражалось, разве что — печать
одухотворенности на лице. Он всегда находил нужные слова для своих духовных
чад, умел поддержать в минуты сомнений, и на исповеди самые скрытные и
легкоранимые души безбоязненно раскрывались перед его внимательным и немного
печальным взглядом. Но главное — вокруг него не чувствовалось, не сквозило
ощущение рутинной работы, доведенной до автоматизма, что нередко сопутствует
многим священникам в переполненных ныне храмах. Он не работал, он жил этим.
Божья благодать есть в каждом священнике, но Божий дар быть русским батюшкой,
видимо, не во всех. У отца Николая этот дар был. Именно к нему ехал Семен в
город своего детства, куда приезжал в последние годы только в отпуск или в
командировки. И теперь, что-то остановило его в двух шагах от аналоя, на
котором лежали Евангелие и крест.
— Придите после вечерней
службы в понедельник... Если сможете. — И взгляд отца Николая уже устремился к
девушке, стоявшей за спиной Семена.
— Хорошо... Я обязательно
приду.
Выйдя из храма, Семен
облегченно вздохнул. Утренний апрельский воздух и с детства знакомые улицы
оживили воспоминания. На сердце было и радостно, и грустно, и легко, и
тревожно, сердце звало... Куда?
Ах, город-город!..
Родной город. Как и десять, как и двадцать лет назад в конце апреля, пусть и не
после коммунистического субботника, улицы и газоны чисты и опрятны. Стволы
кленов и тополей окрашены у корня белой известью. Той же белизной сияют
бордюры. И нет уже нигде грязных куч умирающего снега, в которых этикетками,
пробками, окурками и прочей шелухой цивилизации оттаяло чрево прошедшей зимы.
Газоны еще без травы и больше похожи на пограничную контрольную полосу, вдоль
которой неровно волнятся следы метел. А небо над золочеными куполами немного
пасмурное, будто весна с напускной суровостью вглядывается сверху — все ли
готово к ее приходу. А не успевают, как всегда, грачи и галки, шумно суетящиеся
в обнаженных скелетах старых тополей. Все остальные уже ждут. Ожиданием этим
наполнен воздух, и как бы весна не пряталась за частые серые облака, за окна
неумытых троллейбусов, не ускользала прохладным ветром в переулки, люди уже
вдохнули ее неизменный, но по-своему тревожащий каждый год вкус новизны.
Семен бесцельно брел по
старой улочке, ведущей на набережную. Там с обрыва можно увидеть проснувшуюся,
но еще мутную, чуть помятую после зимней спячки реку. По этой улице они
бродили, взявшись за руки, с Ольгой, и улица не кончалась.