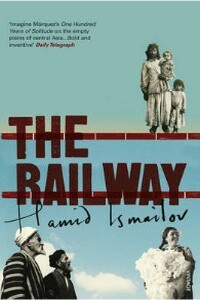Сказано это было в
примирительном тоне настолько, насколько он может звучать из уст недоверчивого человека.
Тот, кого он назвал Семеном, смотрел теперь на него без какого-либо выражения,
кроме усталости от всего на свете. Он снял перчатки и совершенно незначительным
движением достал из кармана куртки пистолет, направив его на своего двойника.
— А так? — только-то и
спросил он.
Но двойник даже глазом
не повел.
— Это, конечно, выход,
но с той разницей, что, получается, стрелять ты будешь одновременно в самого
себя. Этакое необычное самоубийство. Самый тяжелый смертный грех. Так что
валяй, жми курок. Или желаешь перед этим исповедоваться?..
2
В длинной очереди на
исповедь Семен никак не мог сосредоточиться, не мог отпечатать в уме стройную
вереницу грехов, а надо было. Все путалось, одно наплывало на другое, и в
результате он то рассеянно наблюдал за происходящим вокруг, то сосредотачивал
взгляд на какой-нибудь из икон, то исподлобья следил, как отец Николай
внимательно выслушивает многочисленных кающихся бабулек, чуть склонившись над
Евангелием. Доносившиеся с амвона старушечьи грехи казались Семену наивными и
даже смешными. Плохо подумала на соседку, в воскресенье в храм не пошла — стирку
делала, недобрым словом помянула покойную золовку, в пятницу ела скоромное... А
ведь каялись и плакали! И для каждой из них терпеливый отец Николай находил
слова наставления и утешения, и каждая уходила с просветленным сердцем.
Очередь двигалась
медленно. В правом приделе уже заканчивалась утренняя служба, и другой батюшка
вошел в алтарь, дабы совершить все необходимое для причащения многочисленных
мирян, получивших прощение у отца Николая. Семен посмотрел на часы и тут же
устыдился своей суетности. Подумал о том, что и как он сам через несколько
минут будет рассказывать отцу Николаю. Уж сколько ночей не спал, точно
репетировал речь на Высшем Суде. И то раскаяние до слез, а слезы словно и не из
глаз, а из самого сердца, которое нет-нет да и сожмется до боли и трепетания, а
то и ропот от обиды на все вокруг, или зазвучит вдруг с пафосом и всей
подобающей помпезностью оправдательная речь невидимого и гордого защитника
перед такими же невидимыми присяжными. А разум и сердце, меж тем, вступают в
спор — кому быть главным судией в раздираемом противоречиями внутреннем мире
Семена Рогозина. Страсти покипят и улягутся, но облегчение не приходит. В душе,
как после шторма, этакая мертвая зыбь, и темно-серые тучи — мысли проносятся
над мутной водой, что поднялась с самых глубин. А покоится на дне этого моря
горькое рогозинское одиночество. И уж если представлять его, то представлять
огромным монстром-осьминогом, время от времени выбрасывающим свои липкие и
сильные щупальца на поверхность, чтобы утопить в морских пучинах то одно, то
другое — то потянуть за душу, то резануть по сердцу, то перемешать все напрочь
в буйной рогозинской голове. Давно ли буйная-то стала?
С чего начать-то?
Родился, учился, женился, пора умирать?.. Долгая история получится, если
подробно. Подойти бы к отцу Николаю и сказать тихо, что нуждаюсь, мол, в
частной и долгой исповеди, но Семен с детства стеснялся хоть о чем-то просить
людей, даже если он имел на это право или острую необходимость. И если все же
просить приходилось... И даже если исполнение его просьбы не составляло
большого труда, пустяк какой-нибудь, у Семена непременно возникало навязчивое и
месяцами не оставляющее его чувство обязанности по отношению к человеку,
который ему помог. Больше всего он не любил просить у друзей.
Другое дело — Степан.
Тому если надо — он выпросит, не выпросит, так выцарапает, не дадут — возьмет
силой или украдет. И назовется Семеном...
3
Уже перед смертью мать
рассказывала: когда была беременна, простудилась сильно. А лечиться как?
Восьмой месяц. Ни тебе антибиотиков, ни тебе аспиринов. Короче, никакой химии.
Вот и привела к ней соседка Алевтина деда-знахаря. Для городов да и во время
развитого социализма это была большая редкость. Узнай об этом кто-нибудь на
работе, засмеять не засмеяли бы, но на каком-нибудь очередном собрании могли
выговорить. У них в городской библиотеке, где работала Татьяна Васильевна,
такое любили. Мол, как же это так, Татьяна Васильевна, вы же должны нести свет
просвещения советскому народу, знакомить его с лучшими произведениями классиков
социалистического реализма, а сами до чего дошли? Это ж средневековье какое-то!
в самой-то читающей стране! Вам доверили руководить читальным залом, вот и
последние партийные решения у вас на стенде... Пожалуй, при хорошем разгоне да
под горячую руку, да для идеологического воспитания коллектива могли и в
должности понизить и выговор в трудовую впаять.