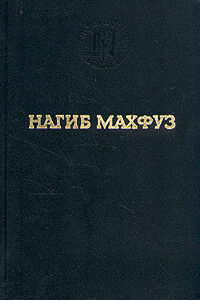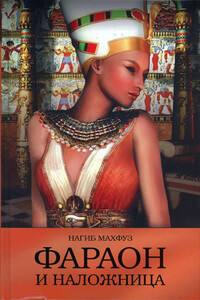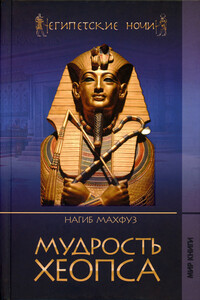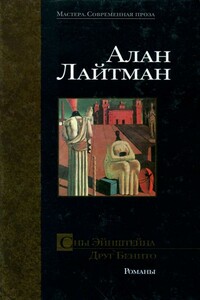Свернув в какой-то тихий переулок, Иса вдруг вспомнил фразу по поводу ликвидации договора[3], сказанную однажды в клубе старым сенатором ас-Сальгуби:
— На все воля божья. Близок наш конец.
Иса, сидевший поблизости, возмутился:
— Эх, вы, сенаторы! Что вас интересует, кроме собственной выгоды?!
Повернувшись к Исе, старик убежденно повторил:
— Конец, а вы что думали? Аллах знает, что делает.
— Да ведь это самое великое событие во всей нашей славной истории! — воскликнул Иса срывающимся от волнения голосом.
— Да, действительно, — приглаживая усы, грустно согласился сенатор, — что за счастливые времена… И все же это конец.
В те дни всеобщего ликования слова старого сенатора звучали как вызов.
И вот сейчас Каир объят пламенем, а по углам улиц притаились предатели. Но нет! Народ найдет на них управу. Все они потонут в море народного гнева.
Заваленная обломками улица чем-то напоминала смертельно раненного большого и сильного зверя.
Иса несколько приободрился, твердо решив во что бы то ни стало пробиться к своему дому. Казалась, прошла целая вечность, прежде чем он наконец увидел знакомые очертания эд-Дукки[4].
Поздно вечером Иса отправился навестить Шукри-пашу. Особняк его находился неподалеку — в пятнадцати минутах ходьбы.
Паша принял Ису в рабочем кабинете, предложил сесть, а сам уселся напротив. Это был невысокий худощавый человек, казавшийся еще меньше в большом глубоком кресле. Его округлое приветливое лицо, изрезанное морщинами, сегодня было мрачным. Всегда элегантный и подтянутый, он и в этот вечер был одет в безупречно сшитый английский костюм пепельно-серого цвета. На лысой голове — красная феска.
Последовал обмен приветствиями — более поспешный, чем обычно: сказывалась серьезность обстановки. Иса чувствовал себя несколько неловко. Всего месяц назад он не решился предложить кандидатуру паши на освободившийся министерский пост, хотя знал, что тот мечтает войти в состав правительства. Теперь Иса искренне сожалел о проявленной нерешительности.
В последнее время старик фактически отошел от активной деятельности и продолжал оставаться лишь членом бюджетной комиссии сената. Сейчас Иса сочувствовал ему почти так же, как самому себе.
И тем не менее ему было очень интересно узнать, что думает этот человек обо всем происходящем.
Исполненный почтительного внимания, Иса терпеливо выжидал, когда Шукри-паша начнет разговор.
Но тот, удобно расположившись в кресле, хранил молчание. Несмотря на переживания, связанные с добровольным затворничеством в своем доме, паша заметно посвежел и даже несколько помолодел с тех пор, как Иса видел его в последний раз.
Наконец Шукри-паша, поправляя на пальце обручальное кольцо, промолвил:
— Да… Сегодняшний день мы долго будем помнить…
— Мне тоже довелось кое-что увидеть, — заметил Иса, стараясь вызвать пашу на откровенный разговор. — Это действительно был черный день.
Иса низко опустил свою большую голову. Его густые вьющиеся волосы рассыпались в разные стороны. Неожиданно резко выпрямившись, он уставился из-под нахмуренных бровей в лицо паши.
— Значит, ты приехал, когда Каир уже горел? — спросил паша.
— Да, там был сущий ад…
— Подумать только… Как ты оцениваешь положение… на канале?
Молодежь полна энтузиазма. Но у нее нет оружия. Расправа англичан с нашей полицией потрясла буквально всех…
— О, боже!
— Да, — мрачно сказал Иса, — мы неудержимо катимся к… — Слова застряли у него в горле.
Глаза собеседников, полные тревоги, встретились.
— А что говорят о нас люди? — едва слышно спросил паша.
— Почти все настроены патриотически. Но наши враги, чтобы отвлечь от себя гнев народа, распространяют слухи, будто мы спровоцировали события на канале.
Губы паши скривились в усмешке.
— Глупцы… Они всегда найдут что сказать… Выпьем-ка лучше кофе, — предложил он Исе, указывая на серебряный кофейник и поднос с печеньем на маленьком столике.
Наполнив чашечки, они стали медленно прихлебывать кофе, но испытывая, впрочем, никакого удовольствия. Иса оглядел кабинет — на стене над роскошным письменным столом висел портрет Саада Заглула[5].
— Представьте себе, я до сих пор не смог связаться с министром…