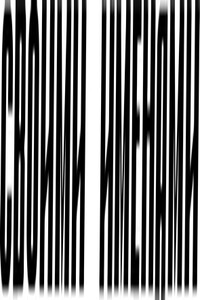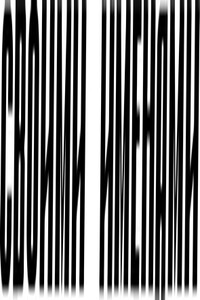В связи с этим популизм можно обозначить как «своего рода общую валюту в которую могут быть конвертированы проблемы большинства политических брендов» [Canovan, 1984, р. 314]. Подобная трактовка популизма помогает преодолеть сложности его содержательного анализа, так как данное содержание может иметь столь различный характер, что само объединение такого разнообразия под единым понятием «популизм» становится бессмысленным[41]. Кроме того, необходимо преодолеть интуитивное отождествление популизма с задворками политического мейнстрима, ибо в настоящее время популизм все больше и больше превращается именно в этот политический мейнстрим даже в странах развитой либеральной демократии. Это стало результатом как растущей коммерциализации наиболее популярных СМИ, так и усиливающейся «когнитивной мобилизации» более образованных слоев населения. Проникновение в большую политику партий-аутсайдеров, которые подвергают популистской атаке традиционный политический истеблишмент, заставляет ведущие партии разворачивать собственные популистские дискурсы [Mudde, 2004, р. 550, 563].
Идея, что множество индивидов могут быть объединены переживанием своего неудовлетворительного положения, не нова. Проблема в том, чтобы понять, как это происходит. Однако слишком «азартное» увлечение данной исследовательской тенденцией может привести к тому, что популизм будет отождествлен с политикой как таковой. Последний состоит во «введении в институциональный политический порядок аутсайдера как исторического агента», тем самым политика объединяет в себе как существующее положение дел, так и возможные альтернативы самой себе [Laclau, 2005b, p. 47]. Другими словами, популистский дискурс становится неизбежным продуктом логики антагонизма и конфликта, без которой политика как реальность подменяется процессом административного управления.
Подобное отождествление политики и популизма, конечно, признается не всеми. В политической теории многие авторы часто склонны отождествлять понятие «популизм» со всем, что имеет отношение не столько к политике, сколько к народу как коллективному субъекту политики[42]. Ибо если отождествлять популистский дискурс с политикой как таковой, а не с народом как таковым, то популизм обесценивается как инструмент политического анализа [Stavrakakis, 2004, р. 263]. Несогласие с такой «концептуальной инфляцией» [Arditi, 2004, р. 140] дополняется сомнением по поводу применимости структуралистской онтологии к толкованию популизма. Логика структурализма конструирует популистский дискурс как аккумуляцию разнородных невыполнимых требований. Однако данные требования могут быть слишком разнородными по содержанию, чтобы охватываться единым понятием, характеризующим общее явление.
Кроме того, единый популистский дискурс как «материализация» языковых конструкций противостоит качественно отличающемуся явлению: если преобладает логика разнообразия, то она есть результат конкретной политики властных инстанций; появление же популярной личности, эксплуатирующей популистский дискурс, оказывается всего лишь результатом логики однообразия как таковой. Получается, что политика противостоит логике: если люди недовольны общественным транспортом, то, согласно структуралистской трактовке позитивизма, они будут проявлять солидарность со своими соседями, недовольными дефицитом безопасности, проблемами образования, качеством воды и т. д., просто по факту недовольства, хотя их позитивные требования могут оказаться не только различными, но и несовместимыми [Laclau, 2005b, р. 37].
Предположение, что массовая солидарность свойственна людям, обменивающимся своим опытом релятивной депривации, порождает вопрос, всегда ли различные виды недовольства приводят к формированию общей солидарности. Иными словами, имеет ли место пассивное недовольство своим положением, которое неспособно к стимулированию массовой солидарности на основе появления популистских конструкций, т. е., не ведут ли различные групповые недовольства всего лишь к проявлению взаимных групповых обвинений, но не к единому популистскому дискурсу?