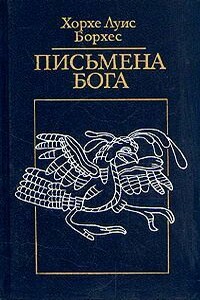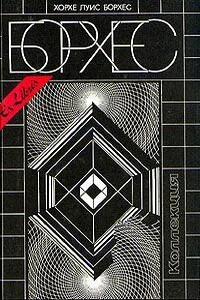Обретенное время - страница 18
(Говоря по правде, глубина перемен, совершенных войной, была обратно пропорциональна величине затронутых умов; во всяком случае, начиная с определенного уровня. Ниже — дурни обыкновенные, ценители наслаждений, которым до войны не было дела. Выше — те, кто своим внутренним миром заместил мир внешний, те, кто не принимал в расчет важность событий. Склад их мысли менялся чем-то не представляющим, на первый взгляд, большого значения; но этот предмет опрокидывал строй их времени, погружая человека в другую пору его жизни. Примером может послужить красота вдохновленных им страниц: очевидно, что песня птицы в парке Монбуасье или ветерок, исполненный запаха резеды, — не столь значимые события, как даты Революции и Империи. Тем не менее, ценность внушенных ими страниц Шатобриана, в «Замогильных записках», бесконечно выше)[40]. Слова «дрейфусар» и «антидрейфусар» больше не имеют смысла, твердили люди, которые выразили бы изумление и возмущение, попробуй им кто-то сказать, что через несколько веков, а возможно и раньше, слово «бош» будет звучать столь же диковинно, как сейчас — «санкюлот», «шуан» или «синий».
Г‑н Бонтан не хотел и слышать о мире, пока Германия не будет раздроблена, как в средние века, до отречения дома Гогенцоллернов, пока Вильгельму II не всадят в лоб пулю. Одним словом, он был из тех, кого Бришо называл «упертыми», а это был высочайший сертификат гражданской сознательности из тех, что могли Бонтану пожаловать. Само собой, первые три дня г‑жа Бонтан, среди всех этих людей, которые просили г‑жу Вердюрен представить ее, чувствовала себя не в своей тарелке; ведь когда она спрашивала: «Вы только что представили меня герцогу д’Осонвилю, не так ли?» — либо по причине полного невежества и отсутствия ассоциаций между именем д’Осонвиля и каким-нибудь титулом, либо напротив, вследствие чрезмерной осведомленности и ассоциаций с «Партией герцогов», в которую, как ей сказали, д’Осонвиль входит в Академии, — г‑жа Вердюрен отвечала ей слегка язвительно: «Графу, милочка моя»[41].
Дня через три г‑жа Бонтан начала обосновываться в Сен‑Жерменском предместье всерьез. Иногда вокруг нее еще можно было различить неведомые осколки иного мира, не более удивительные для тех, кто знал яйцо, из которого она вылупилась, чем скорлупки, приставшие к цыпленку. Однако на третьей неделе она их с себя стряхнула, а через месяц, когда от нее услышали — «Я собираюсь к Леви», никто и не подумал спрашивать: всем было понятно, что речь идет о Леви-Мирпуа; и ни одна герцогиня не смогла уснуть, не узнав от г‑жи Бонтан или г‑жи Вердюрен, хотя бы по телефону, что было в вечерней сводке, о чем там умолчали, когда решат с Грецией, где готовится наступление, — одним словом, всех тех сведений, которые станут известными публике только завтра, а то и позже, и которым г‑жа Бонтан устраивала своего рода последний прогон. В разговоре, сообщая новости, г‑жа Вердюрен употребляла «мы», подразумевая Францию. «Итак,