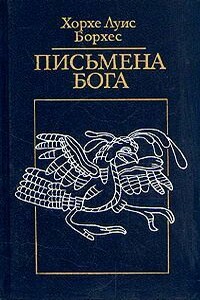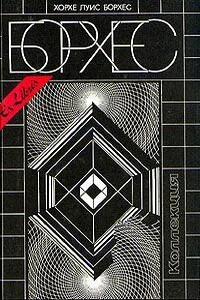По сути же речь идет о творческом методе. Воспоминание «силами рассудка» — пустой перебор фактов, «непроизвольная память» — блаженство и упоение. Эпизод «мадленки» для Пруста, по-видимому, был глубоко личным опытом (следует отметить, что «мадленка» как таковая фигурирует уже на завершающем этапе работы: прежде был бисквит и прочие кондитерские изделия); вполне возможно, этот психофизический процесс для автора и повествователя явился одним из основных побудительных мотивов создания текста; его переживание, в свою очередь, сделало возможным создание сложной ткани повествования с тысячью пересекающихся линий за сравнительно небольшой срок. И всё это вопреки тому, что фактический смысл рассказа заключался в его приведении к известному знаменателю, к заранее составленному уравнению работы — трактату о непроизвольной памяти и старости, то есть о бессмысленности жизни без творчества, как таковой.
4. Кольцо памяти и призвания
Итак, по заранее определенному условию, композиция «Поисков» должна была оказаться кольцеобразной: за седьмым томом следует первый, он возникает как его следствие; когда физически потерянное время героя заканчивается, начинается духовно обретенное время повествователя. In my end is my beginning, гласит его теорема. Восьмой том, который разорвал бы эту вечность, возможен только в виде пастиша (— дом престарелых в отеле венецианских послов, роман Жильберты и герцогини де Германт и т. д.). Однако пока у Пруста не было формального решения композиции — было только «концептуальное», текст продолжал расти как на дрожжах: заявленной целью творческого поиска был «выход за рамки», «попытка увидеть за явлением нечто другое», но сам поиск и путь повествователя заведомо обладал конечной остановкой. По-видимому, для самого Пруста фактическим завершением эпопеи стали два абзаца о колокольчике на садовой калитке и воспоминание о плаче ребенка — эпопея вернулась к исходной точке и, таким образом, была завершена. Последний абзац связал два предела; тогда-то, весной 1922 г., Пруст написал слово «Конец», о чем наутро сообщил Селесте Альбаре (одному из прототипов Франсуазы). За последней страницей читатель оказывается у первой, и первая звучит иначе. Это уже другой роман, читатель является его соавтором.
В новой перспективе каждый факт становится фактом эстетическим. Возможно не только восприятие факта, возможно восприятие этого восприятия. То, что было жизнью и мемуарами, стало произведением искусства; люди и вещи стали образами. Образы сильнее реальных вещей, и намного их интереснее. Рассудок, будучи по природе аналитичен, схватывает в реальности только ее пустоту, все его синтезы — лишь пересечение произвольных конструкций. Реальность же неуловима, ее принцип — сфумато. В ней, однако, есть что-то еще; по крайней мере, творческое усилие человека способно это «что-то» отыскать. Живое чувство и воображение создают некие идентичности — «вневременные реминисценции», благодаря которым мы только и можем что-то знать о реальности. Создание подобных идентичностей отличает жизнь от хаоса. Это работа.
Каково их место в космосе? Пруст не только не дает ответа, он не ставит вопроса. У нас есть только живое чувство, что они характеризуются своим единственным признаком — существованием, тогда как всё прочее не характеризуется ничем. Реальность, иными словами, — осмысленный хаос. Пока реальность не осмыслена, по крайней мере с нашей точки зрения, она не существует.
Мир этих реминисценций имеет начало и конец, он самодостаточен и не подвержен энтропии, потому что замкнут: за его последней точкой следует новый большой взрыв, аналогичный предыдущему.
Конечно же, перед нами не юзергайд юного литератора и не трактат, доказывающий, что единственный смысл жизни — написание о жизни многотомного сочинения. Пруст делит своих персонажей на две категории: в отличие от Свана и де Шарлю, повествователю и «артистам» Берготу, Эльстиру, Вентейлю удалось создать собственные миры. К «творцам» примыкают «деятели»: Сен-Лу, Бришо, Котар и даже кулинарка Франсуаза (в связи с этим реабилитированная). Их жизнь тоже «прошла под знаком призвания», реализации тех талантов, которые необходимо вернуть приумноженными. Реализовавшие свое призвание растворились в акте создания. Прочие растворились в «любовном удовольствии» (как повествователь, когда он «истощал вдохновение с той или иной женщиной», как Сван, не закончивший своих трудов, — в отличие от какого-нибудь Вердюрена, который все-таки написал свой трактат об Уистлере), маленьких и больших пороках, поисках, снобизме, эстетизме — все они так и остались в плену потерянного времени, потому что мир, не будучи создан заново, есть пустота, на которой «лишь играет отсвет наших желаний».