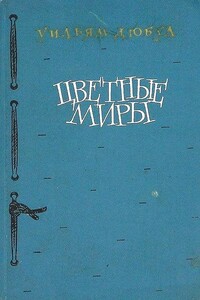На этом я остановился — завтра пора было в путь; впрочем, в этот час, к еженощной службе, на которую уходит половина нашей жизни, меня звал иной хозяин. Закрыв глаза, мы исполняем труд, к которому нас принуждают. Каждое утро он вверяет нас другому владельцу, зная, что иначе мы будем плохо справляться. Стоит сознанию пробудиться, и мы любопытствуем — что же мы делали у господина, свалившего своих рабов, прежде чем включить их в стремительную работу; самые хитрые, когда долг отдан, пытаются тайком подсмотреть. Но сон превосходит их в скорости и скрывает следы того, что им хотелось бы видеть. И вот уже столько веков мы ничего об этом не знаем.
Итак, я закрыл дневник Гонкуров. Авторитет литературы! Мне захотелось снова встретиться с Котарами, узнать у них подробнее об Эльстире, осмотреть лавку «Маленького Дюнкерка», если она еще существует, получить дозволение на визит в особняк Вердюренов, где я когда-то ужинал. Но что‑то смутно тревожило меня. Конечно, я никогда не скрывал от себя, что я не умею слушать, что, как только я оказываюсь в обществе, я теряю наблюдательность. Старуха не показывала мне жемчужных колье, до моего слуха не доходило никаких толков об этом. Так или иначе, всех этих людей я знал по их будничной жизни, я часто ужинал с ними: и Вердюрены, и герцог де Германт, и Котары — каждый из них казался мне столь же заурядным, как Базен моей бабушке, едва ли подозревавшей, что он и «любимый племянник, маленький замечательный герой» г‑жи де Босержан — одно лицо; все они казались мне безынтересными, и бессчетное число раз, вспоминал я, каждый из них показал себя набитым дураком…
И то слывет светилом в небесах![32]
Я решил на время воздержаться от возражений, которые могли возбудить во мне против литературы страницы Гонкура, прочитанные накануне отъезда из Тансонвиля. Даже если оставить в стороне его наивность, поразительное личное свойство этого мемуариста, я тем не менее мог успокоить себя, приняв во внимание следующие моменты. Во-первых, что касается меня лично, мое неумение наблюдать и слушать, столь болезненно продемонстрированное мне дневником, однако, не было абсолютным. Некий персонаж, живший во мне, в какой-то мере был способен к наблюдению, — правда, этот персонаж был прерывен, он оживал лишь в те минуты, когда обнаруживалась какая-то общая сущность, свойственная множеству вещей, служившая ему пищей и усладой. Тогда-то он видел и слышал, но на такой глубине, где наблюдением нельзя было воспользоваться. Как от геометра, который освобождает вещи от их осязаемых качеств и видит лишь их линейный субстрат, от меня ускользало то, что мне люди рассказывали, — меня интересовал не предмет их рассказа, но их манера говорить, насколько она разоблачала их характер или показывала их смешные черты; точнее, целью моего личного поиска всегда был предмет, доставлявший мне особенное удовольствие, — точка, общая для одного человека и для другого. Происходило же это лишь тогда, когда я улавливал, что сознание — дотоле дремавшее, даже за видимой оживленностью разговора, скрывавшей от посторонних тотальное духовное оцепенение, — вдруг радостно нападало на след; однако то, за чем оно устремлялось в этот момент, — например, самотождественность вердюреновского салона, усматриваемая сквозь пространства и времена, — таилось в глубине, по ту сторону внешнего явления, в некоторой обособленности. Поэтому очевидное, поддающееся описанию очарование людей от меня ускользало, я был неспособен за него зацепиться, подобно хирургу, который видит за гладким женским животом грызущую его изнутри боль. Я напрасно ходил на приемы, я не видел там приглашенных: когда мне казалось, что я смотрю на них, я их рентгеновал.
Из сказанного следует, что когда я собирал свои заметки, сделанные о гостях на том или ином приеме, рисунок проведенных мной линий очерчивал совокупность психологических законов, и интерес, который представлял приглашенный своими речами, не занимал в них почти никакого места. Не лишало ли мои портреты всякой ценности то, что для меня эти портреты были чем-то другим? Если, к примеру, в живописи один портрет проявляет нечто истинное в отношении объема, света, движения, то обязательно ли он будет уступать другому портрету той же персоны, ни в чем с ним не схожему, в котором тысячи деталей, опущенных в первом, будут тщательно выписаны, — второму портрету, на основании которого можно будет заключить, что модель прекрасна (тогда как, судя по первому, она отвратительна), что может представлять ценность документальную и даже историческую, но вовсе не обязательно — истину искусства?