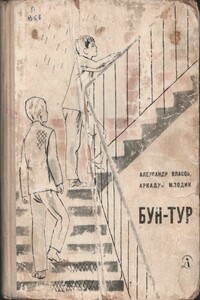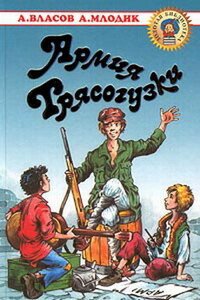Пионерами называли и называют первооткрывателей. В науке, искусстве, на производстве, в спорте есть свои пионеры. Но никогда до Великого Октября не было случая, чтобы пионером стал весь народ.
Сбросив гнет эксплуататоров, советский народ приступил к строительству первого в истории человечества свободного социалистического государства. Каким оно будет, — предвидели гениальные мыслители — Маркс и Ленин. Но на практике еще никто не пытался построить бесклассовое, лишенное эксплуатации, справедливое общество.
Вот почему всех советских людей можно называть этим славным именем — пионеры. Они пионеры, потому что первыми вошли в новую эру, где каждый шаг — открытие.
Когда настало время создать детскую коммунистическую организацию и стали думать, как ее назвать, почетное звание пионеры было подарено юным гражданам юной страны.
Произошло это 19 мая 1922 года. А 23 января 1924 года пионерской организации было присвоено имя Владимира Ильича Ленина.
Уже в первые годы советской власти пионеры доказали, что они недаром носят славное имя ленинцев.
Нижняя часть города называлась Полыновкой, верхняя — Ярусами. Полыновцы селились на сыром полуострове, образованном слиянием двух рек. Жители Ярусов занимали лучшую часть города — его центр, раскинувшийся на возвышенности. До революции в Полыновке, как и на других окраинах, обитали рыбаки, ремесленники, бурлаки и заводские рабочие. В Ярусах жили мещане и купцы. А сейчас в центре города процветали нэпманы.
Полыновские мальчишки без особой нужды в Ярусах не появлялись. Им и у себя было хорошо. Острый угол между двух рек не застраивался, потому что весной и осенью здесь буйствовало половодье. Зато летом тут было привольно и весело. Трава доходила до пояса. Земля покрывалась густым цветным ковром, отороченным по берегу желтой песчаной каймой. А дальше голубели реки: слева глубокая и холодная, справа помельче, с перекатами и удивительно теплой водой.
Мальчишки любили в жаркую погоду садиться на дно между камней. Вода ласково перехлестывала через плечи, щекотала под мышками, старательно обмывала грязные шеи и ноги. Вода была для мальчишек не только усердным банщиком, но и постоянным лекарем. В реку забирались после каждой потасовки с ярусовскими бойскаутами.
Отряд бойскаутов состоял из нэпмановских сынков. Они были заносчивы и драчливы. В коротких штанах, в рубашках цвета хаки, с широкополыми круглыми шляпами на голове, бойскауты всегда ходили группами по десять — пятнадцать человек, и полыновским ребятам здо́рово от них доставалось.
Не было случая, чтобы встреча с бойскаутами обходилась без драки, и всякий раз «шляпы», как их называли полыновские мальчишки, одерживали победу. Бойскауты провожали удирающего противника презрительными криками:
— Гопники!.. Гопники!.. Гопники!..
После одной из таких стычек побитые, исцарапанные полыновские мальчишки понуро пришли к реке, разделись и, потирая ссадины и синяки, вошли в воду. Все молчали, сердито сопели и старались не глядеть друг на друга. Было и обидно, и больно, особенно Тимошке и Матюхе: у Тимошки под глазом набухал зловещий фиолетовый «фонарь», а у Матюхи от правого уха к подбородку шла красная кровоточащая ссадина.
Матюха сел между камней, обмыл щеку в веселой проточной воде. Тимошка с головой погрузился в журчащий поток и усиленно моргал подбитым глазом. Он не услышал, как кто-то из ребят вскрикнул. Не этот отчаянный крик заставил его поднять голову из воды. Моргая глазом, он заметил, что прозрачная зеленоватая вода вдруг потемнела. Тимошка вскинул голову и ошалело посмотрел на бегущие к берегу иссиня-черные фигуры. Он испугался. Ему подумалось, что подбитый глаз перестал видеть. Но всё, кроме Тимошкиных товарищей, сохраняло естественные краски. Он видел в прибрежной траве голубые колокольчики, желтые с белым головки ромашек. Только бегущие в панике мальчишки были черные, как негры.