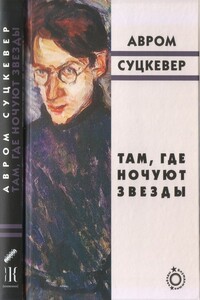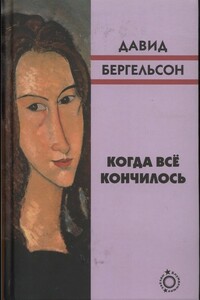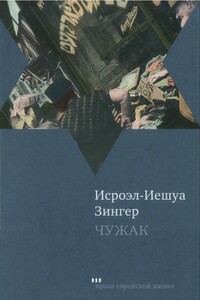— Будь умницей, моя хорошая, слушайся мамочку.
Вечером он вернулся раньше обычного. Не зная, чем себя занять, слонялся по квартире, как незваный гость. Раз десять перечитал одну и ту же газету.
Служанка путалась под ногами. Макала в уксус белый платок, исчезала в спальне, опять появлялась. Миллер ходил на цыпочках, но девушка, обиженная за весь прекрасный пол, зло поглядывала на него и шипела:
— Господин мог бы и не топать… Мадам и так плохо себя чувствует…
Потом, вдобавок к головной боли, начались спазмы. Миллер вошел в спальню, но служанка не подпустила его к кровати, словно там лежала роженица. Он стоял в углу, глядя на утопающую в подушках растрепанную голову и обнаженные дрожащие плечи. Да, это он виноват. Миллер не переносил женских слез. Он знал, что это не в первый и не в последний раз, но всегда, стоило жене разрыдаться, ему казалось, что ее плечи никогда не успокоятся, не перестанут дрожать. Он опустил голову и тяжело вздохнул. Но вдруг на него градом посыпались упреки и претензии, глупые женские претензии, и Миллер ощутил, что чувство вины и сострадания стремительно исчезает, испаряется, а его место занимает ненависть, тяжелая, глухая ненависть. И в четырех стенах сразу стало душно и тесно, словно за тюремной решеткой, что преграждает путь к свободе и счастью.
Она все говорила и говорила, громко, торопливо и бестолково. Припоминала всякие мелочи, забытые сто лет назад. Миллер стоял перед ней, глядя на мокрые глаза и растрепанные волосы, от которых пахло постельным бельем, приближающейся старостью и злобой. Смотрел, как у нее на скулах все ярче проступают багровые пятна, и разочарованно думал: неужели он когда-то ее любил?
А она не замолкала. Теперь она видела, как далеки они друг от друга, какой он чужой, этот рослый, хмурый человек, что стоит возле ее постели. Видела, что ее претензии нелепы и бесполезны, но не могла остановиться. Ей уже хотелось, чтобы он подошел поближе, она даже стала заглядывать ему в глаза, надеясь услышать хоть одно-единственное слово, но он молчал, молчал холодно и упрямо. Она укрылась с головой, чтобы он не видел, как ей больно и стыдно, а он встал, тяжелым шагом вышел из комнаты и хлопнул дверью, бросив служанке:
— Не запирать!.. Не люблю стучаться среди ночи. Понятно?
Мороз покалывал щеки, ветер грохотал оторванным листом кровельного железа. В глаза била снежная крупа.
Миллер широко, свободно зашагал посреди пустой улицы. Погода была под стать настроению. Сперва он злился. Не мог понять, с чего это он стушевался перед двумя глупыми бабами, истеричкой женой и прислугой.
— Так тебе и надо, — ругал он себя сквозь зубы, — так тебе и надо… Эх ты, идиот…
Но вскоре ему стало жалко себя. Ему на спину взвалили груз, который он должен нести через всю жизнь, как верблюд через пустыню. Миллер ясно увидел, в какую паутину лжи он попал. Вот она, супружеская жизнь: бесконечные оправдания, головные боли, детские болезни. Ночью беги в аптеку за каплями, утром целуй жену в непричесанную голову. Наставления тестя и тещи, унылые семейные праздники.
Нет, он не сдастся, он еще поборется! Миллер поднял голову и гордо оглядел безлюдную улицу. Теперь он шел легко и стремительно, словно бесполезная ноша внезапно свалилась с плеч. Он будто парил над землей. Ему хотелось сбросить кожу, взмыть ввысь и улететь куда-то далеко-далеко, где его никто не знает, и там, среди чужих людей, обрести свободу ото всех и от себя.
Вдруг он остановился, задрал голову и попытался заглянуть в окно на первом этаже. Перед глазами возникла коротко постриженная девушка, и он вновь почувствовал тепло ее тела, точь-в-точь как вчера, когда она прижималась к нему, словно хотела в нем утонуть, и шептала:
— Милый мой, единственный…
Он долго всматривался в знакомое окно. Почему такой слабый свет, почему оно занавешено? Миллер несколько раз свистнул и замер в ожидании. Он дрожал от нетерпения, с ненавистью глядя на жалюзи, вдруг ставшие непреодолимым препятствием. Наклонился, зачерпнул горсть снега и быстрым, нервным движением слепил снежок. Бросить в окно или нет?