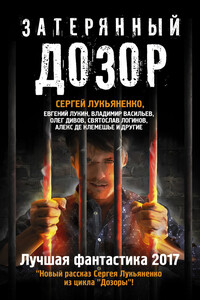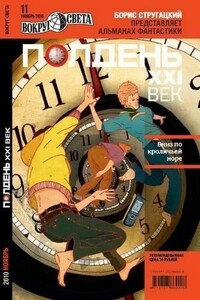Плохо, что нельзя за это выпить.
На четвертой неделе Коля едва не сорвался, но тут Саша попытался спрыгнуть первым, и Коля буквально поймал его за руку, когда тот махал официанту в Доме журналиста.
— Не надо, старик. Давай относиться к трезвости, как к эксперименту. Нельзя бросать такое большое дело на полпути. Еще немного пострадаем, и организм привыкнет.
— К чему, блин, привыкнет?! К этой безнадеге? Мой организм уже хочет в Израиль!
— Перехочет. Все равно его не пустят, ведь он не стучит в КГБ. Потерпи, старик, это все не впустую, слухи-то уже ползут про нас. Рано или поздно будет результат.
— Ага, слухи… О том, что мы на пару с ума сошли! Люди уже ставки делают, когда ты зарежешь кого-нибудь тупым столовым ножиком.
— Удивительно, — Коля взял нож и рассеянно повертел его в пальцах. — Мы не нравились обществу, пока выпивали, и совсем не нравимся, когда перестали? Ах, ну да, это же так не по-нашему, не по-советски…
— Положи, — сказал Саша.
Через месяц трясущийся Королев начал втихаря подумывать о самоубийстве, а потный Слонимский — не пойти ли ему в фотоателье, щелкать советских людей на документы.
И тут советская власть объявила меры по преодолению пьянства и алкоголизма.
Если раньше ужас, с которым пьющие коллеги поглядывали на непьющих Колю с Сашей, был в общем притворным — ну клоуны и клоуны, подыграем им немножко, — теперь он выглядел куда более правдоподобно.
Некоторых, судя по выражению лиц, так и подмывало спросить Колю: «Откуда ты знал?!» Но понятно же, что не мог знать, откуда ему, безобидному интеллигентному пьянчуге…
— Я тебе говорил — будет результат? — шептал Коля.
— Не такой же! — пыхтел Саша.
— Погоди, и своего дождемся.
Еще через девять трезвых дней, которые дались друзьям немного полегче — видимо, организм и правда начал привыкать, — дождались.
Советская власть объявила усиление борьбы с пьянством и алкоголизмом.
Да такое усиление, что в магазинах пропала водка.
Это вам не соплежуйские «меры по преодолению», это по-нашему, со всей коммунистической прямотой, да по сопатке — усиление борьбы!
Рядовая журналистская братия испугалась всерьез. С Колей раскланивались строго издали. Потом ловили Сашу и пытались у него выяснить, как давно Коля в КГБ и на какой должности.
— Прямо не знаю, что ответить, — говорил честный Саша.
Чем, разумеется, только все усугублял. Когда такое скажет здоровенный, поперек себя шире, московский еврей, почти двадцать лет состоявший при журналисте Королеве собутыльником, и вместе с ним непонятно чего ради проделавший головокружительный штопор аж до самого гудка и далее везде — сами понимаете, как это звучит.
Зато Колю полюбили редакторы отделов, ответственные секретари, заместители главных редакторов и сами главные. Здоровались с ним за руку, говорили, что всегда в него верили — или типа того, — желали творческих успехов. Ободряли: ты держись, Николай, ты молодец, Николай. Но почему-то не звали молодца на работу.
— Старик, ты перегнул эту палку, — говорил Саша, потея и утираясь домжуровской салфеткой. — Ты заигрался. Ладно бы они просто боялись. Они тупо не знают, как к тебе относиться! А это плохо, старик… Если будет совсем труба, я-то не пропаду, у меня профессия — вон, в кофре лежит. А ты куда денешься?
— В деревню, гнать на продажу кальвадос, — отвечал Коля, глядя в стол.
— У тебя аппарата нет. А потом, теперь за это дело… Искоренение самогоноварения! Искоренят нафиг.
— Значит, искоренюсь, — глухо отозвался Коля.
И тут его позвали в газету «Воздушный транспорт».
Давным-давно она звалась «Сталинский сокол», а ее главным редактором был лично Василий Иосифович. Когда Иосиф Виссарионович кони двинул, благодарные соратники быстренько ощипали сталинского сокола догола, а профессиональная газета советских авиаторов просто исчезла. Наверное, чтобы авиаторы много о себе не воображали. Чай, не железнодорожники. И даже не лесная промышленность. Перезапустить издание удалось только в семьдесят восьмом, и лично «Победоносцев Советского Союза» товарищ Суслов изволил начертать на пилотном макете исторические слова: «Воздушный транспорт».