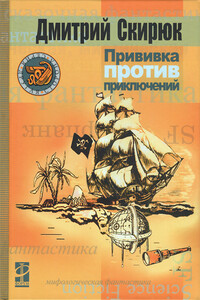Так думала она, свивая петли бытия на спицах времени усталыми пальцами, а пальцев у неё сейчас, наверно, было миллион, если не больше. Она была горном и печью, прялкой и станком, мельницей и верфью мироздания. Она плела другую, новую историю, исхода которой не знала, видела осколки прошлого и тени будущего, отражения реальности, которых нет, но в них уже не было места инквизиции и страху, там её страна надолго останется свободной и независимой. Пусть это случится не сразу и будет не всегда, но у человека есть свои пределы. Время не имело значения. Она старалась ничего не упустить, хотя и знала, что непременно что-нибудь упустит. Но пока поток не иссяк, нужно было переделать всё, что можно переделать. Она была уверена только в одном – она творила, а не разрушала, и какое бы она ни создавала бытие, в нём не было ни зла, ни страха, а за остальное Ялка не могла держать ответа. А магия текла и претворялась в жизнь, в реальность, в бытие, взамен того, ушедшего, и в тот неуловимый миг, когда поток её начал ослабевать, Ялка вдруг почувствовала взгляд из-за спины, будто кто-то наблюдал за её работой, смотрел, справляется ли она, и каким-то шестым чувством она ощутила одобрение.
Ей было страшно и восторженно.
Она не видела, как рядом с нею возникали сущности и тени, жадно перехватывающие ручейки, потоки, даже капли той энергии, которую она не успевала поглотить, не успевала взять, но где-то на краю её сознания мелькали образы. Вот девочка Октавия вслепую, неосознанно вплетает нить её отца обратно в гобелены бытия, вот Рутгер, белый Рутгер расплетает старое заклятие, чтобы увести обратно в жизнь свою любовь, вот Иоганнес Шольц, поймав крупицу Силы, тратит её без сожаления на то, чтобы вернуть хозяина и друга… А Томас, чьи желания до последнего оставались тайной за семью печатями, взял лишь маленькую струйку, и тоже не для себя.
Но были и другие, вроде Вольдемара с Йозефом – те Андерсоновы прихвостни, в которых не угас магический талант. И были их бредовые идеи. Эти тоже сумели урвать струю магической энергии и выстроить свою судьбу, которая – и Ялка это чувствовала – ещё проявит себя в будущем, в другой стране, где сотворится ещё более кровавый кошмар… но с этим она уже ничего не могла поделать.
И были сотни, тысячи других, кого девушка не знала и знать не могла, и все они, вольно или невольно, спешили ухватить свою долю. Она предчувствовала, что страна будет расколота, что скоро, очень скоро от руки продажного убийцы падёт принц Оранский – отравленные пули пронзят его, но с этим она тоже ничего не могла поделать. Она видела ужасные вещи – резню, которую устроят в Маастрихте и Антверпене меньше чем через полгода озверевшие от поражений испанцы. Она предчувствовала дикие века – прекрасное и страшное будущее, распадающееся веером на сотни, тысячи различных вероятностей, но тут она вообще была бессильна.
Белоснежный Единорог обернулся на звёздной дороге и бросил на девушку прощальный долгий взгляд перед тем, как уйти навсегда. «Прощай, Кукушка. Спасибо тебе. Не забудь о травнике», – сказал он, и Ялка вдруг вспомнила, где она слышала тот голос…
«Я помню», – шепнула она.
У неё ещё было время.
И силы.
Зо́ву огней скажешь ли «да»? Круг всё тесней: будь навсегда! Не меркнет звезда, сколько б ни ждать. И время замрёт: будь навсегда!
Холодный ветер утихал. Бездна успокаивалась. Совсем немного времени осталось, и совсем немного нитей волшебства вплеталось в эту песню, в новую реальность. Она сплетала травника обратно из своих воспоминаний, снов и грёз, несбывшихся надежд, рассказов и легенд – всего того, что помнила и знала, думая о нём не как о любимом человеке, а просто о человеке, шептала слова, желая, чтобы он был – был, был! – а остальное не важно.
Неведомый путь, не познана даль, Ну да и пусть: будь навсегда! Ветру времён имя отдать: Будь навсегда! Будь навсегда![132]
Она успела только то, что успела. А потом были усталость, пустота и темнота, и гулкие удары барабана повлекли её обратно.
Домой.
* * *
Было четвёртое октября. Всюду, куда ни посмотри, расстилалась водная гладь. Ветер утих. Всходило солнце. Верхушки холмов превратились в островки, по большей части заболоченные: стоило ступить на них – и приходилось отдельно вытаскивать ногу, отдельно – башмак. Недалёкий город будто вырастал из воды, как северная Венеция. В городской стене зиял пролом – средь горожан нашлись предатели, в последний день взорвавшие пороховую мину. Но войска так и не успели вторгнуться в пролом – вода поднялась, и испанцы, у которых не было лодок, не пошли на приступ. Ожесточённые, усталые, напуганные атаками гёзов и подступавшей водой, они уходили, и грохот упавшей стены только подстегнул их.