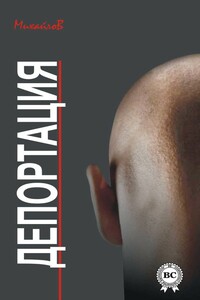— Между прочим, он не верил в твою виновность ни на минуту.
Мне показалось, что это удивило его. Потом он скорчил кислую мину:
— А во что он вообще верил? Никогда он ни во что не верил! — И он снова погрузился в чтение.
Я встал и взял из его рук книгу.
— Почему ты не хочешь разговаривать?
— Пока говорил один я. Ты ничего путного не сказал.
— Ты же рта не давал мне открыть!
— Валяй, говори! — Он откинулся на спинку кресла. — Я слушаю… — Я не знал, с чего начать. — Ну? Кто, с кем? Когда? Где? Дошло ли до жены? Большой ли закатила скандал? У тебя у самого есть кто-нибудь? Хороша собой? Ничего бабенка? О чем же еще со мной говорить, как не о таких вещах!
— Ничего подобного. Да и нет у меня никого. — Я стиснул его руку с такой силой, что он даже вскрикнул от боли. — Можно и мне задать тебе вопрос?
— Нет! Лучше не задавай! — испуганно запротестовал он.
Но я уже не обращал внимания на его возражения.
— Как могло случиться, что ты сам поверил? — Я видел спасение для себя в том, чтобы вслух повторить его признание. Спасение. Зацепка. Передышка. В то же время мои слова бередили какие-то раны, скрытые в глубине его души. Первое — хорошо, второе — плохо. Раны были болезненные, вызывавшие горечь. Но просто так я уже не мог уйти. К тому же на улице все еще лил дождь как из ведра. Возможно, даже шел град. Он резко и звонко все учащеннее барабанил по окнам, напоминая захватывающую дух барабанную дробь в цирке перед исполнением крайне рискованного номера. — Как ты мог поверить? — настойчиво допытывался я.
— Не спрашивай! — Он закрыл лицо руками, словно защищаясь от ослепительного света, и странно съежился, как совсем недавно спичка, догоравшая в его руках.
Его умоляющий крик не остановил меня.
— Ольга поверила. Я сказал тебе, что она бессердечная женщина. Вы жили душа в душу, понимали друг друга с одного взгляда, и все-таки она тебя не знала? Все же поверила? Почему? Я, пожалуй, знал тебя меньше. Наверняка меньше. Но зато я узнал тебя раньше, чем она. Почему я поверил? Допустим, я тоже бессердечный. Но и ты беспощаден к самому себе. Почему ты поверил?
— Не спрашивай! Не береди!
— Нельзя не бередить. Не обижайся, я все-таки скажу: если бы ты не вернулся… если бы сгинул навсегда, осталось бы оправдание: ты виноват. Потом эта версия стала бы непререкаемой истиной. Особенно если бы никто не ворошил старое. Но ты здесь. И сам факт твоего возвращения ворошит прошлое! Не пойми меня превратно, я рад тому, что ты здесь… Но вместе с тобой пришел целый легион вопросов… и они встали не только передо мной!
Мои слова лились, как поток лавы во время извержения вулкана.
Я машинально зажег настольную лампу. Ее свет озарил лицо Дюси.
— Погаси! — в ужасе вскричал он, как от мучительной боли. — Погаси свет!
Я выключил лампу.
Дюси дрожал всем телом. И тут я спохватился, мне стало неловко и стыдно.
— Прости меня. — Я направился к двери, собираясь уйти. Гроза меня уже не удерживала. Но тут я услышал слова Дюси и остановился.
— Именно так они допрашивали: били ярким светом в глаза… И без конца задавали вопросы. Все спрашивали и спрашивали, сто раз одно и то же… Пожалуй, это было самым мучительным. А разве может жизнь состоять только из одних вопросов?
— Прости, — повторил я.
— Знаешь ли ты, что у каждого в душе есть свой осадок? Я убедился в этом. И беспрестанные расспросы поднимают эту муть. В конце концов самому начинает казаться, что ты весь в грязи. Того и гляди захлебнешься в ней. И даже сам не прочь увязнуть в ней.
— Я ухожу.
Дюси не удерживал меня. Встал, намереваясь проводить. В прихожей он остановил меня, словно хотел сказать что-то в напутствие.
— Почему я поверил? Тебя это интересует?
— Нет, нет, ничего не говори. Я признаюсь, что был жесток. Слишком жесток сегодня.
Он не обратил внимания на мое возражение.
— Ты думаешь, я не задавал себе подобного вопроса миллионы раз? И всегда все сводилось к одному и тому же: «Вера и угрызения совести». Тебе непонятно? Да?
Я действительно не понимал.
— Вера в партию, в то, что она не может допустить несправедливость… и угрызения совести, что я так мало сделал для освобождения родины.