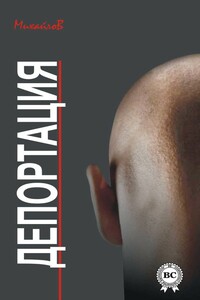Тетушка Балла и Марта обнимаются, и тщедушная, сморщенная старушка, всхлипывая тихонько, пискливо плачет. Словно не на кладбище, а только сейчас, расставаясь с нами, по-настоящему прощается она со своим сыном. На это нестерпимо больно смотреть, и я выбегаю во двор.
Уже стемнело. Кругом тишина, лишь издалека доносится приглушенный собачий лай. Все так же неумолчно рокочет трактор, как бы возвещая, что его непрерывный рокот — это и есть пульс жизни современной деревни, ее неотъемлемая часть. Небо беззвездное, хотя совсем недавно оно было чистым. Откуда ни возьмись, наползли где-то коварно притаившиеся тучи. Начали падать редкие капли дождя. Я поднимаю лицо вверх — на него попадает крупная дождевая капля, потом еще и еще… Они, как слезинки, стекаются к уголкам губ…
— Давай помиримся, братец, — слышу я и только тут замечаю, что Шандор тоже стоит здесь; он вышел вслед за мной. Я не знаю, что сказать ему. Что я в разладе с самим собой, а не с ним? Что я не к нему, а к самому себе предъявляю счет за корову Штейнера, что и с меня не меньший спрос за нее?.. Нет, еще, чего доброго, он примет меня за пьяного. Я молчу — пусть лучше думает, что я сержусь. Человек жалок. Он стыдится предстать перед людьми в обнаженном виде. Даже на смертном одре, в последние минуты сознания, и то старается он прикрыть свою наготу…
Чуть в сторонке мочится Пишта; кряхтит, вздыхает и бормочет:
— Разве можно давать мне полную отставку, господин маэстро? Когда я вовсе не солдат… Я так люблю лошадей, ухаживать за ними…
Наша машина стоит на улице.
В темноте рядом с нею чернеет чей-то силуэт. Лили Варнаи… Неужели она все еще стоит здесь? Мне становится стыдно.
— Почему вы не вошли? — смущенно спрашиваю я.
Человек приближается и заговаривает мужским голосом:
— Ты уж извини, что потревожил. — Это Габор Йенеи. — Мне хотелось бы переговорить с тобой… о Шандоре…
— Мне ехать пора, — говорю я уклончиво. На свежем воздухе я совсем трезвею. Но вместе с трезвостью приходит гнетущая тоска, мне даже слово больно вымолвить. Кажется, заговори я сейчас, все оборвется во мне. Не знаю, почувствовал ли Габор Йеной эту мою смертельную усталость или его просто оттолкнул мой отказ, но он как бы отстраняется от меня.
— Извини, — учтиво говорит он чуть слышно, как какой-нибудь аристократ из пьес Ференца Молнара.
Имей я силы, непременно накричал бы на него. «Где это ты научился такому обхождению? На солончаковых холмах? Или когда в начальниках ходил?»
От изгороди отделяется другая фигура. Это уже и в самом деле Лили Варнаи. Услышав звук открываемой дверцы, она выходит из своего укрытия, словно до этого пряталась от кого-то. Я смутно различаю ее силуэт, но все же замечаю, вернее, чувствую, как она вся дрожит. Ни о чем не спрашивая ее, я молча, движением руки приглашаю ее сесть на заднее сиденье и сажусь рядом с ней.
Урчит мотор, мягко, приветливо, как мурлыкающий кот. Фары рассекают тьму, окутавшую главную вёльдешскую улицу, и мы трогаемся, так ни с кем по-настоящему не простившись.
Незаметно я впадаю в легкое забытье, а может, засыпаю. Когда прихожу в себя, мы уже мчимся по бетонке Мишкольц — Будапешт. Незачем спрашивать, где мы едем: мне знакомо здесь каждое дерево, каждый поворот, каждая выбоина. Но хоть мы и называем шоссе бетонкой, оно почти сплошь асфальтовое. На обочине дороги дымят котлы для варки асфальта. Его приходится часто чинить, то здесь, то там накладывать заплаты. Но неровности остаются, как большие рубцы на израненном теле.
Дождь припускает; стеклоочистители легко бегают по ветровому стеклу. Машина идет ходко; что ни говори, а «шкода» — это вещь. У нас на студии сейчас в моде «симка», считается шиком. Это «форменная» машина режиссеров, «симка» все-таки западная марка; судя по отзывам, возможно, это и впрямь хорошая машина, но я не променял бы ее на свою «шкоду». По-моему, это самая лучшая машина в мире. Как плавно, словно прильнув к земле, делает она крутые повороты даже на этом скользком от дождя асфальте. Правда, и маленькая Марта умело ведет ее. Мне даже хочется похвалить ее, но ее спина — олицетворение немого укора — как бы предостерегает меня: смотри, нарвешься на неприятность, получишь взбучку. Между сидящими в машине нет задушевности, взаимного расположения; в этом тесном мирке каждый замкнулся и ушел в себя.