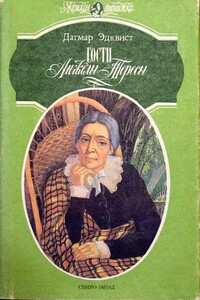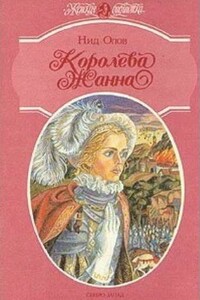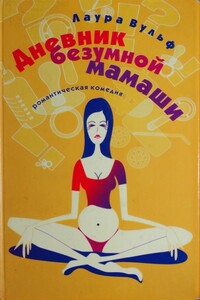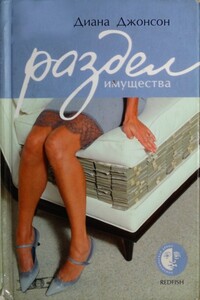У бульвара он ее догоняет. Она останавливается. Она задыхается, приложив руку к груди. Он почтительно склонился перед нею, приподняв шляпу.
— Это возмутительно! — говорит она и топает ногой. — Как вы смеете меня преследовать?
Он стоит молча, с обнаженной головой. Оба бледны.
— Вашему нахальству нет имени. Моя сестра вас заметила. Недостает, чтобы и брат тоже. Чего вы Сбиваетесь? И кто дал вам право?
— Моя любовь…
Она поднимает на него глаза. До этой минуты она избегала смотреть на него.
— Мне хочется вас ударить!
— Ударьте.
Его губы кривятся. Но глаза не улыбаются.
— На нас смотрят, — говорит он вкрадчиво. — Позвольте предложить вам руку.
Ее лицо загорается. Но после секунды колебания она покорно берет его под руку.
Ветер с злобным визгом несется им навстречу, треплет деревья бульвара, вихрем поднимает последние мертвые листья. Трудно дышать.
— Я не могу идти… Сядемте!
У Мани вдруг слабеют ноги. Углы ее рта опускаются. Когда у нее начинается приступ этого странного недомогания, ей как-то уже не хочетея жить. Все теряет цену.
Маня отнимает руку, и гримаса отвращения бежит по ее чертам.
— Вы меня раздражаете… Штейнбах… — В первый раз она называет его так. — Ну, скажите, ради Бога, зачем вы здесь? Ведь я же вам запретила ехать за мной. Я сказала вам, что вы мне… противны. Да, противны…
Брови его скорбно сжимаются. Он прижмуривает веки, как будто ее жестокие слова — булавка, которую она ему вонзила в сердце.
— Это все равно, — говорит он еле слышно.
Но она насторожилась.
— Что? Что «все равно»?
Он молчит, не поднимая головы. Она смотрит на его веки, на его уши.
— Так нет же! — вдруг с внезапной вспышкой говорит она. — Не будет этого! Никогда не буду больше. Глядите! Читайте!
Она уже сунула руку в карман за телеграммой но передумала. И только усмехнулась с презрением.
— Вы можете мне не показывать. Я знаю, что там написано.
— О, еще бы! Вы все знаете…
— Он просит вашей руки. Он пишет, что едет.
Она всем корпусом поворачивается к нему и глядит в его глаза. Он смеется, вернее, показывает мелкие, хищные зубы.
— Скажите мне от души «спасибо», Мария Сергеевна! До этой решимости довел его все-таки я. И вы мне обязаны вашим счастьем. И вот этой презрительной самоуверенностью…
— Вам? Это возмутительно! Почему вам?
— Он знал, что я выехал в Москву за вами. Он боялся вас потерять.
Руки Мани беспомощно опускаются на колени. Ее губы дрожат.
Выражение нежности и глубокой печали смягчает черты Штейнбаха. Он мягко дотрагивается до руки Мани.
— Не огорчайтесь, дитя мое! Имейте мужество взглянуть в лицо истине. Он вас не любит.
— Неправда!
— Он вас не любит. И не пройдет и двух недель, как он отречется от вас.
— За что!.. Разве я… виновата перед ним?
Печальная усмешка кривит его губы.
— Мы часто отвечаем за чужие грехи. Помните, как сказано в Писании? «Кровь Его на нас и на детях наших до седьмого колена!..»
— Тише…
Маня встает. С ужасом она глядит на его склоненную голову, на его прекрасный профиль, похожий на Гейне… И чувствует, что от этих слов в сердце ее как бы образовалась льдинка. Эти загадочные слова… Она уже слышала их. Давно. Тогда она не поняла. Теперь разом их тайный смысл вскрывается перед нею.
Ей вдруг становится так жутко, так холодно… Путник, затерянный в льдистой пустыне, под полярным небом, должен чувствовать такой же ужас одиночества.
Но ведь этот… рядом… Он любит… Что бы ни случилось, что бы ни ждало ее завтра, этот не изменит, не уйдет…
— Марк! — говорит она слабо. Кладет руку на его плечо и садится.
Штейнбах поймал эту новую нотку в ее голосе. Он крепко держит на этот раз ее руку.
— Вы простудитесь… Пойдемте.
— Куда?
Он молча встает и быстро идет вперед, все так же крепко придерживая руку Мани.
Вдруг он чувствует, что она содрогнулась.
— Мой брат… — Маня вырывает руку.
Петр Сергеевич идет домой, шагах в двухстах навстречу им. Но он их не видит. Глубоко засунув руки в карманы пальто, надвинув на глаза шляпу и слегка приподняв плечи, он идет, погруженный в глубокую задумчивость.
Штейнбах заслоняет от него Маню. Он провожает его зорким, пытливым взглядом. В глубине его зрачков горит какая-то мысль.