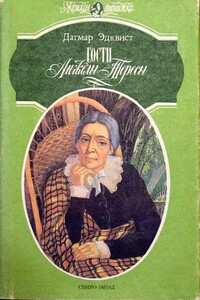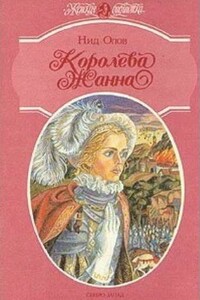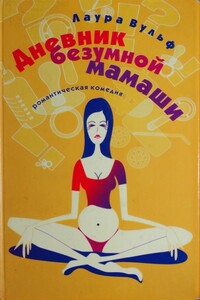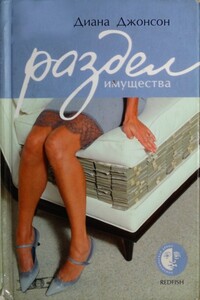— Мы пообедаем… Да? — И он звонит.
Безмолвный слуга в ливрее появляется неожиданно, как в феерии. Он вносит дымящиеся блюда в серебряных судках и скрывается.
Значит, этот обед наедине был решен заранее? Опять глухое раздражение начинает подниматься в ее груди.
Она все-таки ест, потому что голодна. И все это так вкусно пахнет! Так изысканно сервировано. Но… она краснеет… Есть блюда, от которых она отказывается. Она просто не умеет их есть. Только бы он не понял. И почему он сам ничего не ест? Это стесняет…
Вдруг она бледнеет и отодвигает тарелку.
— Вам не нравится?
— Молчите! Не спрашивайте! Дайте мне воды… Она лежит несколько минут с закрытыми глазами.
Потом бледно улыбается.
— Вам лучше? — вкрадчиво спрашивает он.
Она ярко краснеет и садится.
— Да!.. Да!.. Налейте мне вина!..
— Не вредно ли оно вам?
— Почему? — с вызовом спрашивает она, избегая его взгляда. — Почему вино может быть мне вредно?
Он тихонько пожимает плечами.
— Вам лучше знать…
«Что он думает?… Что он знает?.. Неужели догадывается?… Я умру, если он догадается. Это моя тайна. Заветная тайна. Скажу одному Николеньке. Никому больше в мире…»
Золотистая влага, ароматная и густая, ударяет в виски. Такое чувство, что кровь зажглась. Приятно и жутко.
— О, какая прелесть! Что это такое?
— Lacrima Cristi. Этому вину пятьдесят два года.
Маня задумчиво глядит на странный, темный кувшин.
— Еще? — глазами спрашивает Штейнбах. И наливает, не дожидаясь.
Маня вдруг ставит недопитую рюмку.
— Марк… Марк… Где ты?… Темно… Мне дурно, Марк…
Когда она приходит в себя, она лежит в глубине комнаты, за старинными, вышитыми золотом ширмами, на широкой софе, какие мы видим на сцене, в рыцарских пьесах Метерлинка. Широкая софа, а на ней брошена тяжелая парчовая старинная ткань.
В следующее мгновение Маня видит и ее, и эти ширмы, и лицо сокола, склоненное над нею. И эти брови, которые она так любит… Но видит каким-то другим зрением. Сознание еще дремлет.
— Где я? — шепчет она.
— Со мною… Не бойся ничего, — звучит шепот.
И глаза без дна и блеска глядят в ее зрачки так близко-близко. И дыхание их мешается.
Она обнимает его голову в могучем порыве счастья. Если б он и хотел вырваться, она не отпустила бы его. Ее темная, дремлющая душа вся трепещет от предчувствия радости, божественной радости, которой не было так давно… Так бесконечно давно! Ее губы ищут его уста и приникают к ним жадно, как к свежему ключу в палящей пустыне. О, забыться! Почувствовать экстаз… Почувствовать себя опять богом на земле…
Часы бьют.
Она просыпается. Но не открывает глаз.
Где она? Отчего у нее было такое чувство, что кто-то близкий и любимый, такой сильный и горячий, лежал с нею рядом? И даже послушные линии ее тела сохранили еще как будто это прикосновение, эту ласку…
— Николенька? — шепчет она. И улыбается.
Вдруг искра пробегает по ее телу. Она мгновенно выпрямляется и садится. Она все вспомнила.
В ногах ее сидит Штейнбах. Под локтем у него вышитая подушка. Он положил подбородок в ладони. И жадно, хищно как-то глядит на нее, почти не шевелясь. Только в таинственной глубине его зрачков стоит жадный вопрос.
Когда слово «Николенька» срывается у Мани, его черты искажаются. Но только на миг. И он опять настороже. Хищный и вкрадчивый.
Их глаза встречаются.
— Боже мой! — говорит Маня. И с отчаянием прячет голову в подушку.
Он тихонько приникает губами к ее свободной руке.
Она злобно хватает его за лицо и отстраняет от себя. Ему больно от ее ногтей. Но он с трудом сдергивает улыбку.
— Который час? — грубо спрашивает она. — Пробило девять.
— Девять? — Она вскакивает. — Что я наделала? Боже мой! Что я наделала? Что я теперь скажу дома?
— Вы скажете, что были у Сони.
— Азе, пожалуйста, не учите меня! Я сама знаю, что мне надо говорить…
— Я думал, что вам нужен совет.
— Мне ничего от вас не нужно! — с мрачной ненавистью срывается у Мани.
— Совсем как мужчина, — тихо говорит он. Словно думает про себя. Но она слышит.
— Что вы сказали? Повторите! Что вы сказали?
— Ничего обидного для вас. Вы любите, как мужчина.
— То есть?
— Не будем ставить точки над i. Вы постигли высшую мудрость, Маня. Быть самой собою. И ваше отчаяние мне кажется странным.