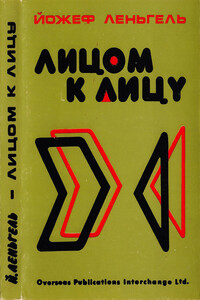Но Вешелени принимает дружбу всерьез. Хотя он и пятью годами моложе, зато воистину мужчина, глава семьи, надежная опора любимой матери. Наряду с восприимчивостью ума и восторженностью натуры он простодушен, а может быть, попросту душою предан делу.
Пожалуй, растянись их первая встреча с Сечени надолго, и дружбе на том пришел бы конец. Но поскольку они пробыли вместе всего лишь несколько дней, то подготовка к совместному путешествию продолжается, и в связи с этой подготовкой Вешелени приезжает в Вену.
Первого января 1822 года Сечени является к Меттерниху засвидетельствовать свое почтение. Шесть лет назад он постарался уклониться от этой церемонии. И после того как он по-французски произносит все, что положено говорить в таких случаях, стареющий князь — он все же острее умом, нежели о нем судит лорд Холланд — по славной венской привычке тотчас приступает к сути.
— Ну, и где же вы намереваетесь провести 1822 год?
— Благодарю вас за предоставленную мне возможность испросить паспорт во Францию и Англию.
— Что до меня, то можете рассчитывать на мою помощь, — отвечает Меттерних. И поскольку выказать остроту ума можно лишь по-французски, продолжает: — Et croyez moi, c’est toujours mieux, que vous restiez tout ailleurs qu’ici[44].
Сечени лишается дара речи, настолько поражает его завуалированная угроза в словах канцлера. О путешествии в Америку он и заикнуться не смеет. Если он лицо настолько нежелательное в Вене, то это отнюдь не означает, что его поездку в Америку сочли бы желательной. Уж не догадывается ли Меттерних, что он охотно взял бы на себя роль Лафайета? Во всяком случае, разница между разрешением на поездку, облеченным в такую словесную форму, и заключением в замок Мункача или Куфштейна — лишь в оттенках или же последовательности наказаний.
Так следует понимать слова «всемогущего» канцлера, и Сечени так их и понимает.
Все это он успевает обдумать еще там, в большой княжеской приемной, вслух не проронив ни слова; вот разве что лоб у него нервно подергивается. Теперь маловероятно, что ему когда-либо удастся попасть за границу. Тем более стоит попробовать, хотя бы ради того, чтобы узнать, в подневольном он уже положении или еще нет. Не только предлог, но и подлинная цель его поездки — основать затем конный спорт в Венгрии, наладить коневодство и тому подобное. Для этого-то он и берет с собой Вешелени.
Знатные господа, поддерживающие идею скачек, к Новому году собираются в Вене. Сечени созывает их, чтобы вместе обдумать, как обеспечить успех делу. Однако важные персоны не являются к нему — дурной признак. А те, кто откликнулся на приглашение, не так уж важны для пользы дела: этих господ привлекла слава знаменитых обедов Сечени. Несколько юных магнатских отпрысков да безвольных стариков — на такую компанию нельзя положиться.
С момента той беседы у Меттерниха и до отъезда из Вены проходит три месяца. Сечени уже уверен, что пунктом назначения для него будет Куфштейн. Однако ничего подобного не происходит, просто паспорт застрял где-то в лабиринтах венских канцелярий. Там знают, что он не карбонарий. Да он и сам это знает. «Но я и не «ультра». Он занимает серединную позицию, и, может быть, поэтому его не принимают всерьез так, как ему хотелось бы…
Покинув Вену, через шестьдесят один час быстрой езды в карете путники прибывают в Мюнхен. Здесь настроение Сечени меняется. В театре баварский князь Карл зазывает его в свою ложу, а затем вводит и в ложу короля. Король же приглашает его к обеду. «Он был со мной так aimable[45], что я отрекаюсь от конституции и республики. Величал меня «милым Штефлом», жал мне руку — в то время как его зять не желает произвести меня в майоры», — пишет он в своем дневнике. Вот ведь до чего предательским может оказаться дневник! Но тот, кто заносит туда эти строки, судя по всему был и оставался сторонником республики и конституции.
Однако кто ему поверит, когда он сам себе не верит! Вот следующая фраза:
«До чего странным и шутовским выглядит такой малый двор! И сколь несчастным с течением времени должен чувствовать себя человек в такой тесной среде».