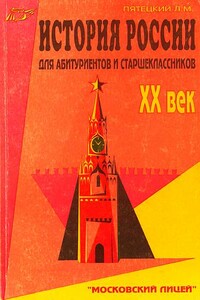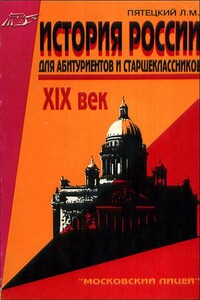Начавшаяся война с Турцией поставила перед Россией вопрос о союзниках, необходимости денежных кредитов и закупке оружия за границей. Петру представлялось необходимым иметь свой сильный флот, своих знающих инженеров, обученные по-европейски войска, со своими знающими дело начальниками во главе. Но где взять их? Послать за границу выучиться!
«Командируя десятки молодежи в заграничную выучку, он, естественно, должен был командировать и себя самого туда же» (В. О. Ключевский).
Время с ноября 1696 по февраль 1697 г. прошло в подготовке великого посольства к отъезду, причем все нити руководства этой подготовкой держал в своих руках царь. «…Он определял состав посольства, размер жалованья должностным лицам, в том числе и великим послам, устанавливал количество „мягкой рухляди“ для нужд посольства и т. д.» (Н. И. Павленко). С удивлением узнали в Москве, что и сам царь хочет ехать за границу в составе великого посольства, скрыв себя в свите под именем «Преображенского полка урядника Петра Михайлова». Петр поручил государство своим близким людям (дяде Льву Кирилловичу Нарышкину, князю Борису Голицыну, князю Федору Ромодановскому и другим).
Все было готово к отъезду посольства. На 24 февраля 1697 г. Гордон назначил прощальный ужин, но Петр, против обыкновения, не приехал. Петра предупредили, что на него готовится покушение. Стрелецкий полковник Иван Цыклер и родовитые дворяне Алексей Соковнин и Федор Пушкин были уличены в том, что искали случая убить Петра. Отъезд царя был отложен. В Москве происходят розыски и пытки; многих посылают в ссылку, а Цыклера с товарищами казнят. Озлобленный Петр принимает особые меры предосторожности. Неблагонадежные стрелецкие полки высылаются из Москвы в Азов и на литовско-польскую границу.
2-го марта 1697 года передовой отряд посольства выехал из Москвы. 9-го марта покинул столицу и царь Петр. Две недели понадобилось посольству, чтобы 24-го марта достичь пограничного пункта — Псково-Печерского монастыря. Далее начинались владения Швеции.
«В 1697 году по Европе проходят странные вести: при разных дворах является русское посольство; в чем (во главе — Л.П.) его два великих полномочных посла: один иностранец, женевец Лефорт, другой русский, Головин; в свите посольства удивительный молодой человек, называется Петр Михайлов; он отделяется от посольства, останавливается в разных местах, учится, работает, особенно занимается морским делом, но ничего не ускользает от его внимания, жажда знания, понятливость, способности необыкновенные, — и этот необыкновенный человек сам царь русский» (С. М. Соловьев).
В. О. Ключевский пишет: «Он (Петр — Л.П.) ехал за границу не как любознательный и досужий путешественник, чтобы полюбоваться диковинами чужой культуры, а как рабочий, желавший спешно ознакомиться с недостававшими ему надобными мастерствами: он искал на Западе техники, а не цивилизации. На заграничных письмах его явилась печать с надписью: „Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую“».
О целях великого посольства известный русский историк пишет так: «Он (Петр — Л.П.) зачислил себя под именем Петра Михайлова в свиту торжественного посольства, отправлявшегося к европейским дворам по поводу шедшей тогда коалиционной[8] борьбы с Турцией, чтобы скрепить прежние или завязать новые дружественные отношения с западноевропейскими государствами. Но это была открытая цель посольства. Великие послы Лефорт, Головин и думный дьяк Возницын получили еще негласную инструкцию сыскать за границей на морскую службу капитанов добрых, „которые б сами в матросах бывали, а службою дошли чина, а не по иным причинам“, такие же поручиков и кучу всевозможных мастеров, „которые делают на кораблях всякое дело“».
Волонтер посольства урядник Петр Михайлов, как только попал за границу, принялся доучиваться артиллерии. В прусском городе Кенигсберге его учитель, прусский полковник, дал ему аттестат, в котором, выражая удивление быстрым успехам ученика в артиллерии, свидетельствовал, что «означенный Петр Михайлов всюду за осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может».